Что такое свободы: Недопустимое название — Викисловарь
Свобода слова: ценность универсальная, но не абсолютная!
Серия Свобода слова, Эпизод 26:Право свободно выражать свое мнение находится под угрозой как в демократическом мире, там это право узурпируют социальные сети, так и в недемократических странах, где это право попирается ногами диктаторами и власть имущими.
Этот контент был опубликован 03 мая 2021 года — 07:00 Янина Вельп Доступно на 9 других языкахПеревод: Игорь Петров.
В этом материале свое мнение на тему положения в сфере свободы слова высказывает Янина Вельп (Yanina Welp). Она является научным сотрудником «Центра демократии им. Альберта Хиршмана» (Albert Hirschman Centre on Democracy) при Graduate Institute в Женеве, кроме того, она редакционный координатор портала Agenda Pública и соучредитель аналитического центра Red de Politólogas.
«Право на свободу выражения мнений является, пожалуй, самым спорным и неоднозначным элементом в механизме современной представительной демократии. Эта свобода была официально закреплена во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Однако во все большем числе стран она находится под реальной угрозой, а в иных странах власти настойчиво пытаются проверить ее на прочность и выяснить, где находятся ее границы. Мы находимся на критическом перепутье, тогда как в Ст. 19 Всеобщей декларации прямо указано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Таким образом, под свободой выражения мнений понимается способность каждого отдельного человека или группы людей выражать свои убеждения, мысли, идеи и эмоции на различные темы без опасения стать жертвой цензуры. Но является ли это право абсолютным? Очевидно, нет. Есть тут и ограничения. В частности, в
Пандемия принесла с собой новые проблемы. С одной стороны, возникли новые формы «теорий заговоров», пропагандируемых группами, выступающими против научного знания вообще и против вакцинации в частности. С другой стороны, появилось значительное число тех, кто считает, что «правительства используют пандемию, чтобы усилить властный контроль и свернуть демократию».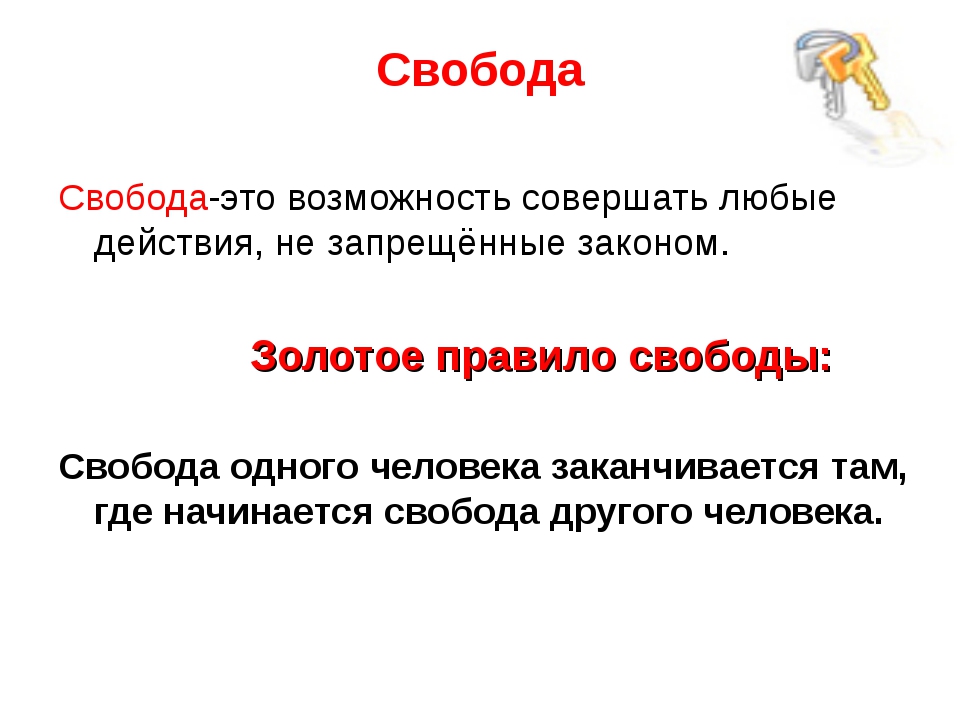
Столп и утверждение современной демократии
Таким образом, как и все основные права и права человека, свобода выражения мнений является базовым, но отнюдь не абсолютным правом. Тем не менее, этот принцип является несущей опорой современной демократии, например, он закреплен в Первой поправке к Конституции США от 15 декабря 1791 г.: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное её исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».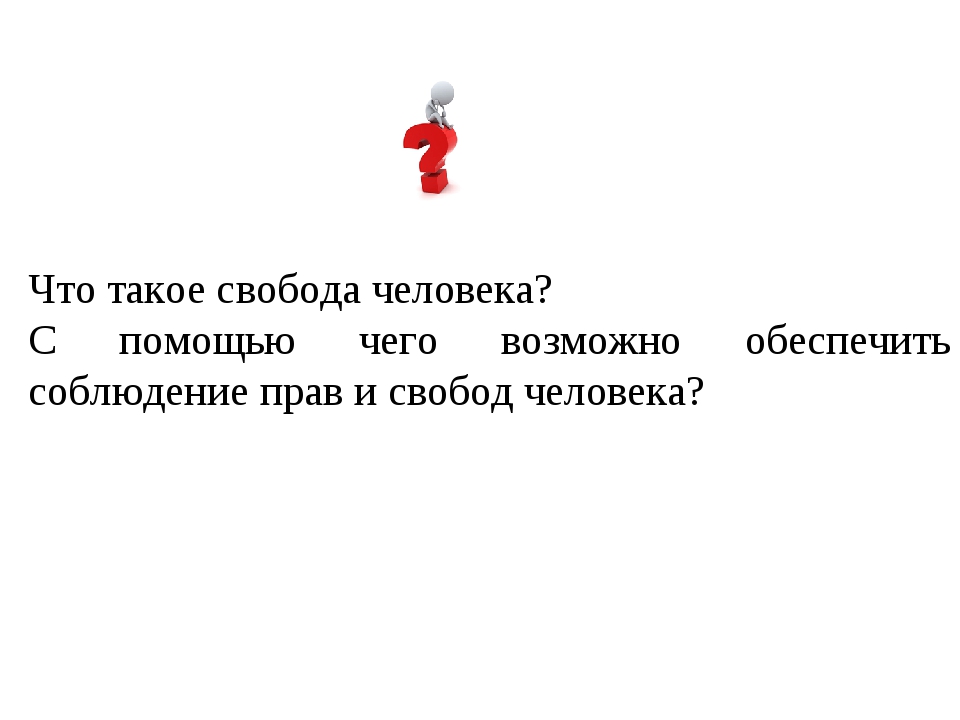
В то время основной целью Поправки, как отмечал Томас Джефферсон, было построить «стену между церковью и государством». Однако со временем свобода средств массовой информации и слова стала основополагающей основой любого демократического режима, поскольку право на свободу слова демонстрирует открытость политической системы для любых законных инструментов обеспечения ее подотчетности и привлечения ее, в случае необходимости, к ответственности. В последнее время, однако, свобода выражения мнений подвергается все большей угрозе. С одной стороны, в мире появляется все больше и больше автократов у власти, независимые СМИ и общественные активисты подвергаются преследованию.
Внешний контент Тем не менее, решение сетей Twitter и Facebook заблокировать его аккаунты поставило перед нами важнейший вопрос: должны ли частные медиакомпании нести ответственность за публикацию неприемлемых высказываний? Где проходит граница между пропагандой ненависти и свободой слова? Не приводят ли сами медиакомпании к эрозии принципов, на которых строится система плюралистической и независимой, свободной прессы?
Тем не менее, решение сетей Twitter и Facebook заблокировать его аккаунты поставило перед нами важнейший вопрос: должны ли частные медиакомпании нести ответственность за публикацию неприемлемых высказываний? Где проходит граница между пропагандой ненависти и свободой слова? Не приводят ли сами медиакомпании к эрозии принципов, на которых строится система плюралистической и независимой, свободной прессы?Под давлением
В 2021 году сразу несколько стран, входящих в G20, включая Бразилию, Индию и Турцию, оказались в числе тех, где демократия идет на спад или превращается в свою противоположность, то есть в автократию. Лидером в этой сомнительной гонке является, по моему мнению, Польша. По данным института Varieties of Democracy (V-Dem), расположенного в Гетеборге, сейчас 68% населения мира (87 стран) живут в условиях автократических режимов. Индия с ее 1,37 миллиардами жителей недавно была понижена в рейтинге этого института, утратив статус «крупнейшей в мире демократии» и став «электоральной автократией».
Ваш голос должен быть услышан!
В принципе, тут все вроде бы должно быть ясно и понятно. Как во Всеобщей декларации прав человека (1948 год), так и в Пакте ООН о гражданских и политических правах (1966 год) говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, художественных или любых других средств по своему выбору».
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 год) также утверждает свободу выражения мнений как юридически обязательное право любого человека (Статья 10). Швейцария закрепила эту фундаментальную свободу в Статье 16 своей федеральной Конституции (редакция 1999 года). Однако на практике многое тут остается спорным, неопределенным. Правительства многих стран мира не защищают право на свободу слова, а, напротив, разными способами все больше подрывают его.
Недавно даже в Швейцарии на первый страницах прессы сообщалось о преследовании властями России портала «Медуза», объявленного «иностранным агентом». В последние дни под давлением властей оказались в России журналисты, освещавшие недавние протестные акции. С другой стороны, отдельные лица и группы используют «свободу слова» для распространения и оправдания дискриминационных и ненавистнических высказываний. Многие при этом берут на себя неизвестно кем данное им право определять, что есть мораль и нравственность и навязывать свое мнение другим. Имеется в виду так называемая «культура отмены» и «новая этика».
Ясно одно, «свободна слова» есть право универсальное, но не абсолютное. Но речь идет не о поиске некоего «источника морали», откуда эту мораль можно черпать, но о каждодневном процессе принятия решений на основании двух принципов: 1. Считаю ли я этот мир здесь и сейчас идеальным? 2. Хочу ли я, чтобы законы этого мира стали универсальным законом для меня, для окружающих, для вообще человека и его социума? 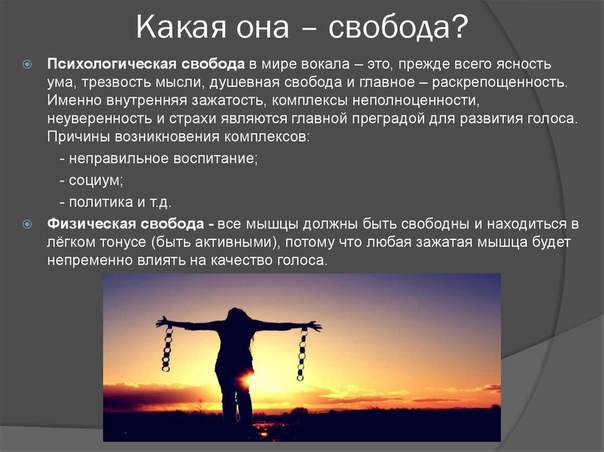 Но для этого нам нужна культура дебатов, которая строится не на принципе «у кого громче голос, тот и прав», но на ренессансных идеалах обмена рациональными аргументами в совместном стремлении найти истину.
Но для этого нам нужна культура дебатов, которая строится не на принципе «у кого громче голос, тот и прав», но на ренессансных идеалах обмена рациональными аргументами в совместном стремлении найти истину.
В новой серии публикаций портал SWI swissinfo.ch намерен рассмотреть и обсудить самые различные аспекты, проблемы, мнения и события, связанные со свободой слова, причем как в Швейцарии, так и во всем мире. Мы предоставляем всем желающим свободную платформу для выражения своих взглядов по данному вопросу, мы предлагаем аналитические материалы известных ученых и экспертов и проливаем свет на события, происходящие на локальном и глобальном уровне. И, конечно же, все наши читатели приглашаются присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение при помощи специального нами для этих целей придуманного формата.
Среди факторов, которые привели к снижению рейтинга Индии, наиболее значимыми были угрозы свободе СМИ, урезание академической свободы и сужение пространства работы гражданского общества.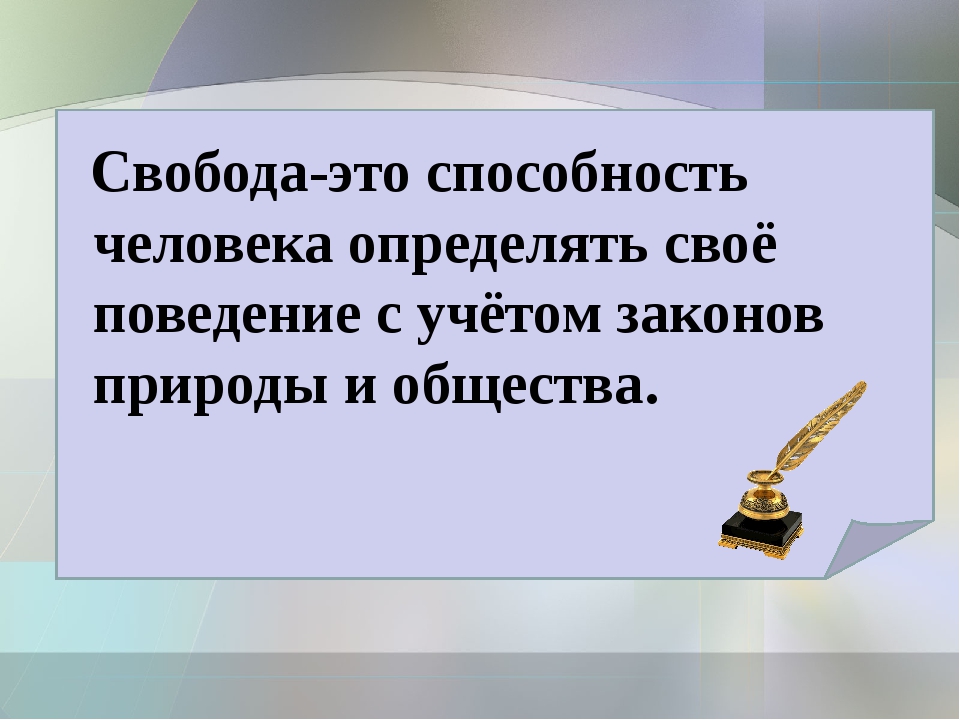 Число либеральных демократий в мире сократилось с 41 в 2010 году до 32 в 2020 году, сейчас в них проживают всего 14% населения мира. В категорию «электоральные демократии, по мнению института Varieties of Democracy можно отнести сейчас 60 стран, то есть 19% населения мира. Схема, по которой развиваются автократии, обычно выглядят одинаково. Сначала правящие режимы атакуют свободные СМИ и гражданское общество, они раскалывают общество путем шельмования оппозиции распространения ложной информации, затем выхолащивают систему выборов.
Число либеральных демократий в мире сократилось с 41 в 2010 году до 32 в 2020 году, сейчас в них проживают всего 14% населения мира. В категорию «электоральные демократии, по мнению института Varieties of Democracy можно отнести сейчас 60 стран, то есть 19% населения мира. Схема, по которой развиваются автократии, обычно выглядят одинаково. Сначала правящие режимы атакуют свободные СМИ и гражданское общество, они раскалывают общество путем шельмования оппозиции распространения ложной информации, затем выхолащивают систему выборов.
Ярким примером стало в этом отношении протестное движение в Гонконге в 2018 и 2019 годах. Оно призывало к большей демократии, ответом же Китая стали жестокие репрессии и законодательные ограничения. Закон о национальной безопасности, принятый в середине 2020 года, означает, что теперь граждане Гонконга не могут больше свободно выражать свое мнение. Россия также встала на путь репрессий, арестовав и осудив лидера оппозиции Алексея Навального после неудавшегося покушения на него. Правительство Швейцарии присоединилось к настоятельным международным призывам и требованиям немедленного освобождения Алексея Навального.
Правительство Швейцарии присоединилось к настоятельным международным призывам и требованиям немедленного освобождения Алексея Навального.
В глобальном масштабе свобода выражения мнений также находится под особенным давлением. По данным института V-Dem, в прошлом 2020 году значительное ухудшение ситуации в области свободы мнений и прессы были зафиксированы в 32 странах мира, тогда как всего три года назад их было «только» 19. Тренд на рост числа антилиберальных популистских политических лидеров по всему миру стал признаком некоего глобального истощения, всеобщей усталости. Структурное социальное неравенство во многих странах, — а особенно в политической системе США — и растущий расизм как инструмент выхода из этого неравенства, стали, по моему мнению, основой огромной популярности в народе Дональда Трампа.
Блокирование таких, как он, в соцсетях, не имеет, однако, никакого смысла. Идеи таких людей должны, напротив, быть составной частью демократической культуры дебатов, которая предлагает альтернативы, активно привлекая граждан к управлению и расширяя поле демократических прав и свобод. Если данная политическая система оказывается неспособной смягчить социальные диспропорции и/или обеспечить защиту прав человека, то тогда основным фактором и инструментом, мобилизующим электорат, становится культура ненависти в социальных сетях.
Если данная политическая система оказывается неспособной смягчить социальные диспропорции и/или обеспечить защиту прав человека, то тогда основным фактором и инструментом, мобилизующим электорат, становится культура ненависти в социальных сетях.
За все этим стоит неспособность политических лидеров и систем увидеть и отреагировать на требования и чаяния населения, неумение делом доказать и показать, что политика вполне может, способна и хочет изменить ситуацию к лучшему. Что делать? Решить эту проблему можно только путем создания более широких условий для демократического участия граждан в управлении обществом, а также путем совершенствования и расширения условий свободного формирования народом своего мнения. Другими словами, без свободы слова нет демократии, а без демократии нет свободы слова.
Статья в этом материале
Серия Свобода слова
Ключевые слова:Что такое свобода? — Нож
В январе 1950 года газета Le Libertaire публиковала ответы французских писателей на вопрос «Что вы думаете о деле Селина?».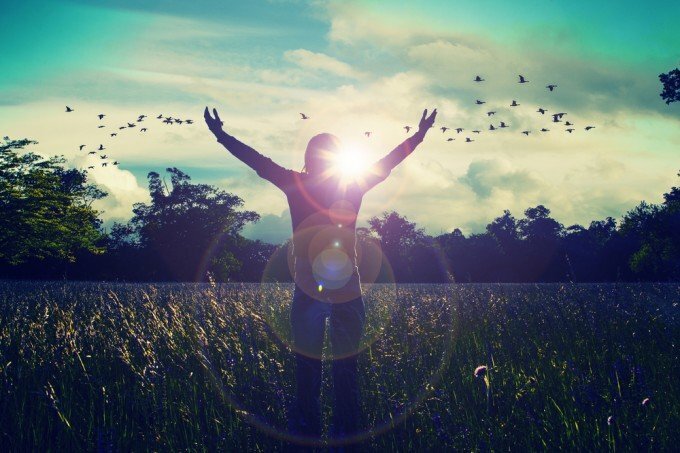 Писателя Луи-Фердинанда Селина обвиняли в измене родине и сотрудничестве с нацистами во время оккупации Франции. Поразительно, но практически все респонденты основывали свои заключения — и оправдательные, и обвинительные — на признании или непризнании литературных заслуг Селина. Как будто эстетические предпочтения имеют хоть какое-то отношение к юридическим основаниям преследования.
Писателя Луи-Фердинанда Селина обвиняли в измене родине и сотрудничестве с нацистами во время оккупации Франции. Поразительно, но практически все респонденты основывали свои заключения — и оправдательные, и обвинительные — на признании или непризнании литературных заслуг Селина. Как будто эстетические предпочтения имеют хоть какое-то отношение к юридическим основаниям преследования.
Есть среди ответов Le Libertaire и заключение Альбера Камю, автора повести «Посторонний», о нелепости примешивания к правосудию посторонних этических вопросов. Но именно этим микшированием занимались французские писатели, решая судьбу своего коллеги. И ровно тем же грешат обыватели всех мастей, утверждая: «Он ни в чем не виноват, потому что он мне нравится» или «Никогда его не любил — делайте с ним что хотите».
Есть ли у человека право на самовыражение и право на беспристрастный суд? Чем вообще определяется индивидуальная свобода?Если, конечно, это не пустые конструкты, выдумки цивилизации Прогресса. Попробуем разобраться с правами и свободами на примере трех кинокартин: двух американских и одной немецкой.
Попробуем разобраться с правами и свободами на примере трех кинокартин: двух американских и одной немецкой.
«Ток-радио» (Talk Radio, режиссер Оливер Стоун, 1988)
Ранняя картина «Ток-радио» одного из самых злободневных режиссеров Америки повествует о Бэрри Чэмплене, ведущем радиопрограммы «Полуночник», которая состоит из эпатажных телефонных бесед. Любой желающий может позвонить на радиостанцию и попытаться спровоцировать ведущего. Работа Чэмплена — отражать выпады и обращать их против самих слушателей.
Шоу «Полуночник» — популярнейшее в Техасе, но вместе с тем и самое ненавистное. Оскорблениями и грубым сарказмом ведущий настраивает аудиторию против себя. Хотя кого-то именно такая подача, наоборот, привлекает. Полярное разделение на ярых сторонников и противников обеспечивает радиопередаче высокий рейтинг.
Бэрри Чэмплен эксплуатирует особенность человеческого восприятия — придавать гораздо большее значение негативу — и в итоге сам оказывается жертвой «черной оптики».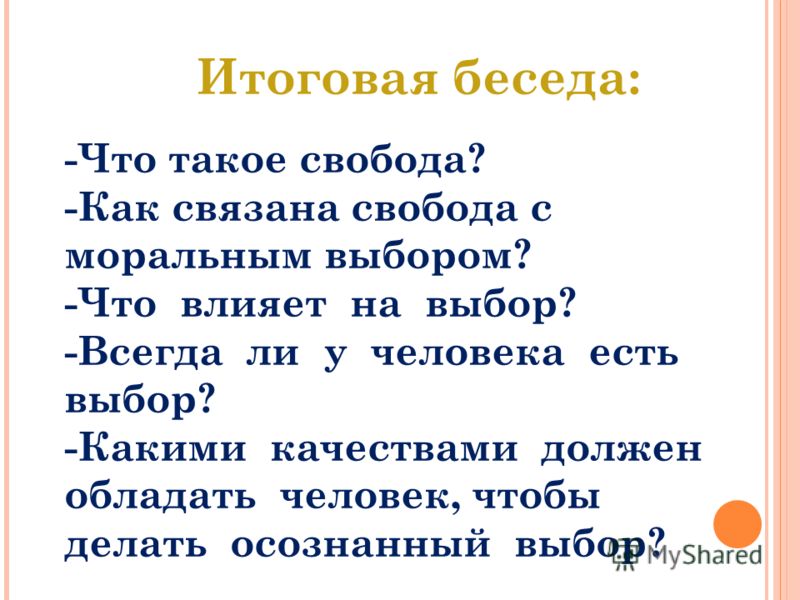 Его поклонники скорее навязчивы, нежели полезны, к тому же они всегда где-то в стороне — в отличие от противников, агрессивно возвращающих брутальный цинизм радиоведущего ему обратно.
Его поклонники скорее навязчивы, нежели полезны, к тому же они всегда где-то в стороне — в отличие от противников, агрессивно возвращающих брутальный цинизм радиоведущего ему обратно.
Фильм поставлен по пьесе Стивена Сингулара, отсюда его камерность. Такая картина не предполагает зрелищности или крутых сюжетных поворотов. Она, скорее, вскрывает психологические коллизии, внутренний мир главного героя, который держит оборону против остального мира.
Однако Стоуна всегда больше интересовали общественно-политические аспекты, нежели индивидуальные, и «Ток-радио» не исключение. Конечно, фигура Чэмплена любопытна: каждый день принимать на себя удары всех полуночных психов Техаса — занятие не из приятных. Но гораздо интереснее личности ведущего его феномен, социальное напряжение, рождаемое радиоэфиром.
За редким исключением каждый звонящий пытается уколоть Чэмплена, причем без всяких оглядок на корректность. Чэмплен не задирает слушателей просто так — он принимает вызов и помещает агрессию анонима в психическое пространство его уязвимости, в котором безымянный голос внезапно обретает личность и немедленно оскорбляется.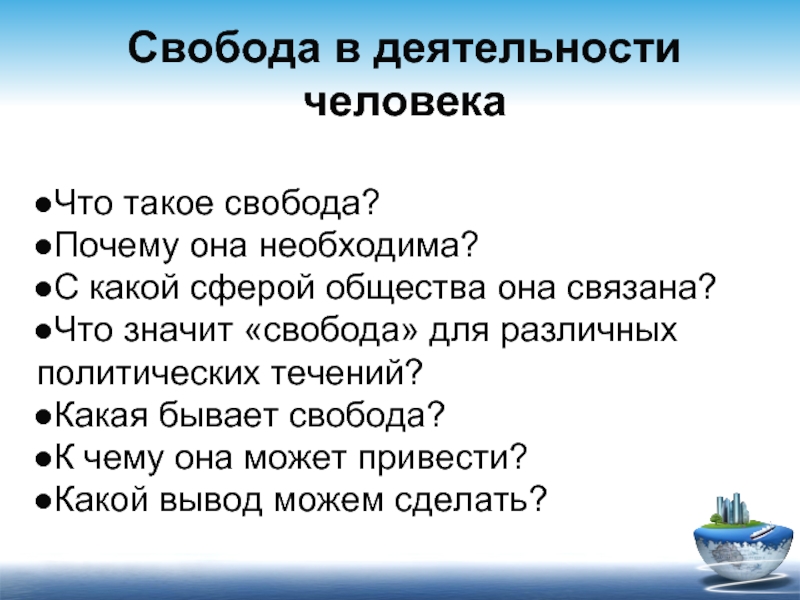 Показная легкость, с которой ведущий оборачивает выпады слушателей против них самих, вызывает необычный эффект — аудитория проникается неприязнью, но не к анонимному задире, который бросает трубку и навсегда исчезает из эфира, а к самому Чэмплену.
Показная легкость, с которой ведущий оборачивает выпады слушателей против них самих, вызывает необычный эффект — аудитория проникается неприязнью, но не к анонимному задире, который бросает трубку и навсегда исчезает из эфира, а к самому Чэмплену.
Виртуозность должна быть наказана. Или хотя бы осуждена.
В таком прочтении Talk Radio можно воспринимать как повествование о конфронтации массы и индивида. Звонящие безымянны и поэтому в полной мере могут воспользоваться свободой слова. Ведущий же пользуется ею лишь юридически, в соответствии с установившейся судебной практикой.
В контексте радиопрограммы он, в отличие от анонимных слушателей, выделяется в череде скандалов своей идентифицируемостью. К Чэмплену можно испытывать устойчивую симпатию или неприязнь, в отличие от подавляющего большинства его респондентов, про которых забывают сразу по окончании разговора.
Какими бы ни были собеседники ведущего: насильники, маньяки, наркоманы, расисты, антисемиты, гитлеристы, — их признания не стоят ничего рядом с человеком, обладающим именем.
Имя выделяет индивида из массы и позволяет испытывать к нему какие-либо чувства.
В случае «Полуночника» речь идет главным образом о неприязни.
Talk Radio Оливера Стоуна исследует проблему свободы слова в антагонистичной, антипатичной коннотации. Ведь независимость суждений проявляется не в согласии, но в противоречии. А поскольку происходящее помещено в рамки развлекательного шоу, Чэмплен облекает свои рекламации в максимально некорректную форму.
Задира-одиночка противопоставляет себя задире-массе. Но масса складывается из безымянных экземпляров, каждый из которых идентичен другому, поэтому выпады слушателей не воспринимаются как оскорбления. Ответы ведущего, напротив, квалифицируются со всей строгостью.
Некорректность, грубость, злость Бэрри Чэмплена задевают людей за живое, хотя он не изображает из себя приверженца каких-либо одиозных взглядов. Даже аргументы ведущего в поддержку легализации наркотиков к концу 1980-х скорее общее место, нежели крамола.
Такая свобода разделяется людьми поодиночке, но и здесь не обходится без нюансов, купюр и подводных камней. За индивидом стоят общество и государство, конституция и законодательство, гарантирующие смысловую и стилистическую независимость высказывания. Но в самой природе человека уже содержится стремление к коллективу (общественное измерение), который в любой момент готов превратиться в массу, где стерты индивидуальные различия и каждый может лишь присоединиться к общему реву.
Герой «Ток-радио» переживает непростой жизненный период после развода с женой. Он и сам с трудом выносит себя, поэтому страх Чэмплена, защитная реакция на внешнюю агрессию, нивелирован. С садомазохистским удовольствием Чэмплен бросается в эту игру с булавками под ногтями. И предсказуемо сталкивается с материализацией анонимной неприязни: его расстреливают на выходе из здания радиостанции. Даже упрятанная в радиоэфир свобода слова всё же находит своего мстителя, воспринявшего все смыслы Чэмплена с должной ответственностью и реализовавшего общее негодование.
Даже упрятанная в радиоэфир свобода слова всё же находит своего мстителя, воспринявшего все смыслы Чэмплена с должной ответственностью и реализовавшего общее негодование.
«Слово может покалечить» — таков слоган картины Оливера Стоуна.
В правовом удушье«Процесс» (The Trial, режиссер Орсон Уэллс, 1962)
В отличие о Talk Radio, привязанного ко времени и месту — США 1980-х, «Процесс» Орсона Уэллса использует американскую действительность лишь в качестве декораций. Это экранизация романа-притчи Франца Кафки, ускользающая от национальной или исторической конкретики. И тем не менее произведение Кафки, как и фильм Уэллса, поднимают важнейшую тему современного мира — удушье в правовых абстракциях. Растворение, напоминающее кататонический ступор.
Юриспруденция считается предельно конкретной дисциплиной, и юристы внимательнейшим образом следят за точностью формулировок. Однако для всех остальных их точность и вообще языковая практика представляются запутанной бессмыслицей. Причем эта кажущаяся бессмыслица возникает не в специальной области, например научной, а на территории самих дилетантов, отношения между которыми юриспруденция должна регулировать. Парадокс, но от современного человека требуется удовлетворять правовым нормам, в которых он способен разобраться разве что с помощью длительного и дорогостоящего участия специалистов.
Причем эта кажущаяся бессмыслица возникает не в специальной области, например научной, а на территории самих дилетантов, отношения между которыми юриспруденция должна регулировать. Парадокс, но от современного человека требуется удовлетворять правовым нормам, в которых он способен разобраться разве что с помощью длительного и дорогостоящего участия специалистов.
Герой К. сталкивается с судебной машиной, он не понимает ни ее устройства, ни хотя бы предъявленного обвинения. На протяжении всего повествования К. пытается разобраться, но только крепче увязает в абсурде происходящего.
Примечательно, что главного героя не арестовывают, формально судебное преследование никак не сказывается на свободе его действий. Однако на самом деле оно полностью меняет жизнь К., вовлекая его в нескончаемую череду новых отношений. Таков эффект декларируемой свободы, которую правильнее называть мягкой диктатурой: вас как будто ничего не сдерживает, хотя в действительности ваши действия и намерения полностью регламентированы внешней инстанцией.
Кафка, а следом и Уэллс, изображают мир, в котором декларируемые правила обретают абсолютный статус и превращаются в верховного субъекта. А люди, придумавшие эти правила, — в объекты абсолюта. Индивиды, вынужденные существовать под диктатом юридических абстракций, даже не имеют возможности в них разобраться. Бедолаги вроде К. оказываются в роли животных, которые слышат неизвестные команды. Обязанные подчиняться, они могут лишь догадываться о значении команд.
До крайности усложненная судебная система больше не ограничивается тремя сторонами: обвинением, защитой и судьей. Этого уже недостаточно. Всё чаще привлекаются так называемые эксперты, без участия которых суд не может интерпретировать поступки участников конфликта.
Но если даже профессиональные юристы не в силах определить правовой статус событий, то почему судебная система требует этого от обычных людей?Как человек может понять, что совершает преступление, не являясь ни юристом, ни экспертом?
Майкл Корлеоне, герой трилогии «Крестный отец», озвучил сентенцию своего родителя, главы мафиозного клана: «Друзей следует держать близко, а врагов — еще ближе».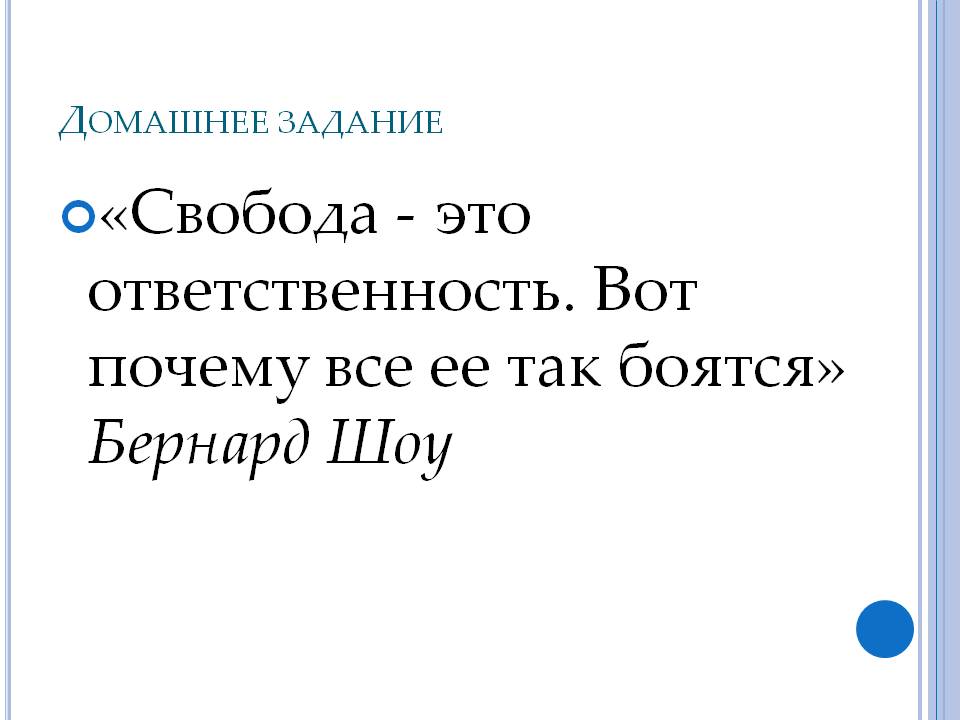 Как точно криминальная премудрость описывает действие Закона в прочтении Франца Кафки.
Как точно криминальная премудрость описывает действие Закона в прочтении Франца Кафки.
Обычный гражданин уже в силу законопослушности приближен к Закону, хотя между ними еще остается дистанция. Но со временем Закон устраняет и этот зазор, переводя гражданина по другую сторону правосудия, объявляя преступником. С этого момента Закон прижимает человека так крепко, как это только возможно. И прижимает всё сильнее, делая ближе и ближе, пока обвиняемый не умирает.
«Процесс», кадр из фильмаВ конце «Процесса» К. убивают судебные исполнители. Герой так и не понял, в чем его обвиняли, как работает судебная машина и как следовало действовать, угодив в ее жернова. К. лишь всё глубже погружался в абсурд юридической бессмыслицы, тарабарщины на незнакомом языке.
Роман Франца Кафки и его кинопереложение Орсона Уэллса — пример наказания без преступления. Двенадцатью годами позже Луис Бунюэль продемонстрирует в «Призраке свободы» (Le Fantome de la liberte, 1974) его антипод — преступление без наказания. Убийцу, расстрелявшего прохожих из снайперской винтовки, приговорили к смертной казни, после чего немедленно отпустили на свободу. Суд состоялся, приговор вынесли, но не привели в исполнение. Это кафкианский «Процесс» с обратным знаком, в котором отсутствовали суд и приговор, зато в наличии наказание.
Убийцу, расстрелявшего прохожих из снайперской винтовки, приговорили к смертной казни, после чего немедленно отпустили на свободу. Суд состоялся, приговор вынесли, но не привели в исполнение. Это кафкианский «Процесс» с обратным знаком, в котором отсутствовали суд и приговор, зато в наличии наказание.
Поэтому судьям запрещено указывать на нарушения, если на них не обратила внимания какая-либо из сторон. Чем и пользуются юристы кредитных организаций, преследуя частных должников, у которых обычно даже нет адвокатов.
Справедливость подменяется так называемой состязательностью. Хотя очевидно: никакой состязательности между крупной корпорацией и ее частным должником нет и, что еще важнее, состязательность — это всего лишь техническая реализация справедливости, она не обладает самостоятельной ценностью.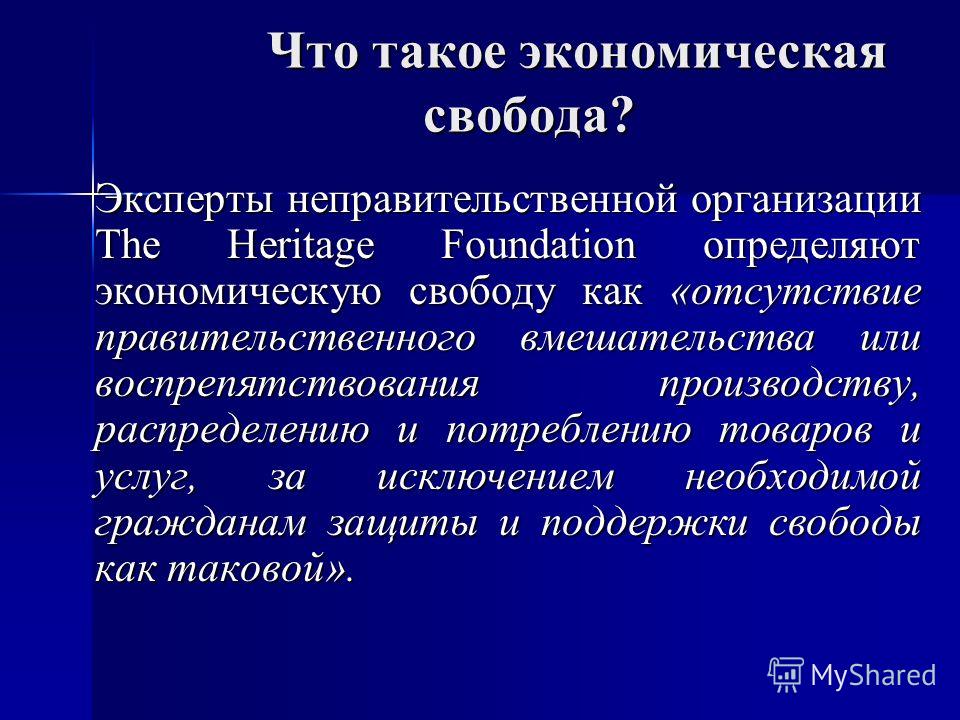
На суде всё переворачивается с ног на голову, как будто его задача не объективное разрешение конфликта, а поддержание игрового азарта сторон.
К. так и не сумел разобраться в правилах. Игра в «Процесс» началась слишком рано, а закончилась еще раньше. Герой Кафки и Уэллса умер прежде, чем зашел во врата Закона.
В оцепенении свободного падения«Волна» (Die Welle, режиссер Деннис Ганзель, 2008)
Рассмотрев свободу слова и диктатуру закона (которую современная демократия экзотически понимает как одну из свобод), перейдем к свободе вообще. Фильм Денниса Ганзеля сложно отнести к авторскому кино, это вполне заурядная развлекательная картина со всеми характерными штампами и упрощениями. Тем не менее «Волна» затрагивает важнейшую тему свободы и оголяет противоречивость ее популярной интерпретации.
Сорокалетний левак Райнер Венгер, работающий учителем в школе, ведет недельный курс «Автократия». Чтобы заинтересовать учеников, он решает облечь занятия в игровую форму и объединить молодых людей в автократический союз с простейшими корпоративными атрибутами вроде дисциплины, унификации внешнего вида, товарищества, общей символики — словом, всего того, что на молодежном наречии принято называть фашизмом. Из бесформенного подросткового пластилина, мямлящего что-то глупое и невнятное, слушатели курса на глазах обретают строгость и стиль полновесной личности. Ленивая инфантильная разболтанность уступает место вдохновенному энтузиазму.
Из бесформенного подросткового пластилина, мямлящего что-то глупое и невнятное, слушатели курса на глазах обретают строгость и стиль полновесной личности. Ленивая инфантильная разболтанность уступает место вдохновенному энтузиазму.
Фильм Ганзеля хорош тем, что расхожие клише обнажаются без всякой рефлексии, как будто их истинность давно не подвергается сомнению. Таковы толерантность и политкорректность, примененные к декоративным различиям, но мгновенно исчезающие по отношению к различиям более существенным.
Пара девушек уходит с курса Венгера: одна не понимает, почему должна отвечать преподавателю стоя, а другой не идет белая сорочка, выбранная большинством униформой сообщества. Причины исхода вполне весомые, ведь за белыми сорочками всегда следуют черные рубашки, а за дисциплинарным интерфейсом — черепомерки и газовые печи.
Интересно, как в сознании юных нонконформистов уживается подобная прозорливость с окружающей действительностью? Неужели поколение, живущее между «Макдоналдсом» и офисом, считает фашистскими униформу официантов и деловой этикет?
По всей видимости, такие коллизии героев не волнуют, что отражено, например, в сцене столкновения «анархистов» с приспешниками господина Венгера.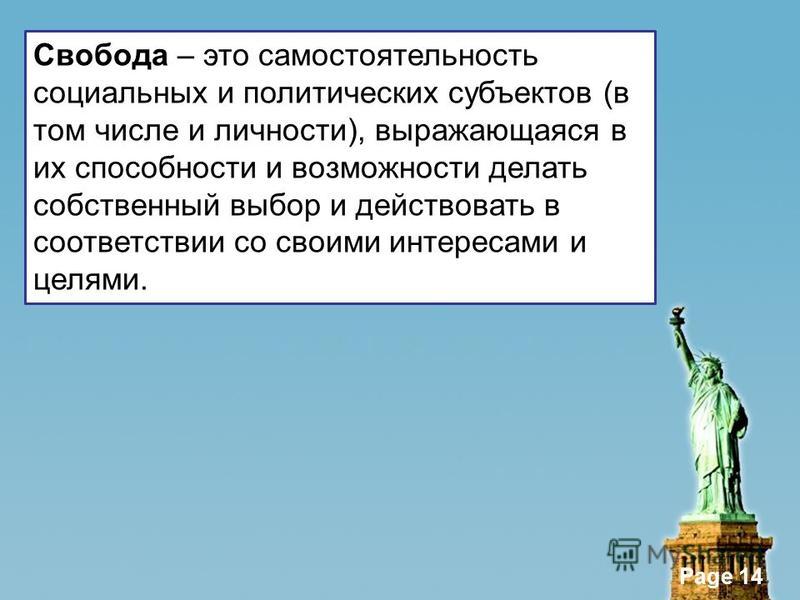 Обиженные подростки, слушающие панк-рок, приводят сорокалетнего переростка в кожаной куртке с заклепками, который кулаками и увещеваниями про нацизм пытается восстановить справедливость. Но терпит неудачу, наткнувшись на пистолет.
Обиженные подростки, слушающие панк-рок, приводят сорокалетнего переростка в кожаной куртке с заклепками, который кулаками и увещеваниями про нацизм пытается восстановить справедливость. Но терпит неудачу, наткнувшись на пистолет.
Эксперимент преподавателя продолжается. Он охватывает не только учащихся старших классов, но и других подростков, притягивая их духом товарищества, изъятым из либерального общества разрозненных эгоистов.
Подружка одного из героев, та самая, которой не пошла белая сорочка, пытается «остановить „Волну“» посредством интриг и диффамации. Симптоматично, что именно эта девушка выступает в фильме как положительный герой, предвидевший наступление фашизма. Авторов не сильно заботит моральный облик антифашистки — конфликтной и эгоистичной, не придающей никакого значения чужим чувствам и желаниям. Не вписавшись в новое сообщество, героиня не нашла ничего лучше, как начать с ним бороться.
Но борьба отверженной антифашистки никак не сказалась на «Волне». Кликушество героини никого не переубедило, финальная трагедия случилась совсем по другой причине. Недельный курс «Автократии» подошел к концу, и его ведущий, по совместительству глава «Волны», из харизматичного господина Венгера попытался снова стать Райнером. Однако масштаб единения перевесил частную инициативу: школьники с неодобрением восприняли окончание эксперимента. Один из них достал пистолет, которым отразил нападение «анархистов», и стал угрожать преподавателю, пытаясь вернуть его на место фюрера (от немецкого Führer — «лидер»). В конце концов школьник выпустил несколько пуль в одноклассника, после чего покончил с собой.
Что продемонстрировал эксперимент Венгера? Разве по замыслу ученики не должны были сами прийти к неприятию автократии вместо роспуска группы сверху тем самым лицом, которого они считали вдохновителем?
Вероятно, истерика девушки, которой не шла белая сорочка, олицетворяет светлое начало, гуманистическое предвидение катастрофы. Хотя очевидно, что действия героини лишь сплотили участников «Волны», как любое грубое вмешательство со стороны.
Хотя очевидно, что действия героини лишь сплотили участников «Волны», как любое грубое вмешательство со стороны.
Имеет ли право свободный человек носить белую сорочку? А если сорочку носят все остальные, он всё равно может надеть ее, как свободный человек? А выбрать групповую символику разрешено, оставаясь при этом свободным? Национальный флаг, логотип рок-группы, товарный знак — это еще проявления свободы или уже признаки ее отсутствия? А может ли свободный человек поддержать приятеля или именно на основании его вхождения в твой ближний круг приятель не должен получить поддержку? Насколько же тернистый путь прошла гуманитарная мысль послевоенной Европы, чтобы сделать элементарные вопросы запутанными ребусами, нуждающимися в утомительной дешифровке.
«Волна», кадр из фильмаНо проблема свободы не ограничивается упомянутыми частностями, как долго мы бы их ни перечисляли. Эта проблема заключается в том, что свобода подает себя не как принцип, а как код, унифицирующий свободных людей.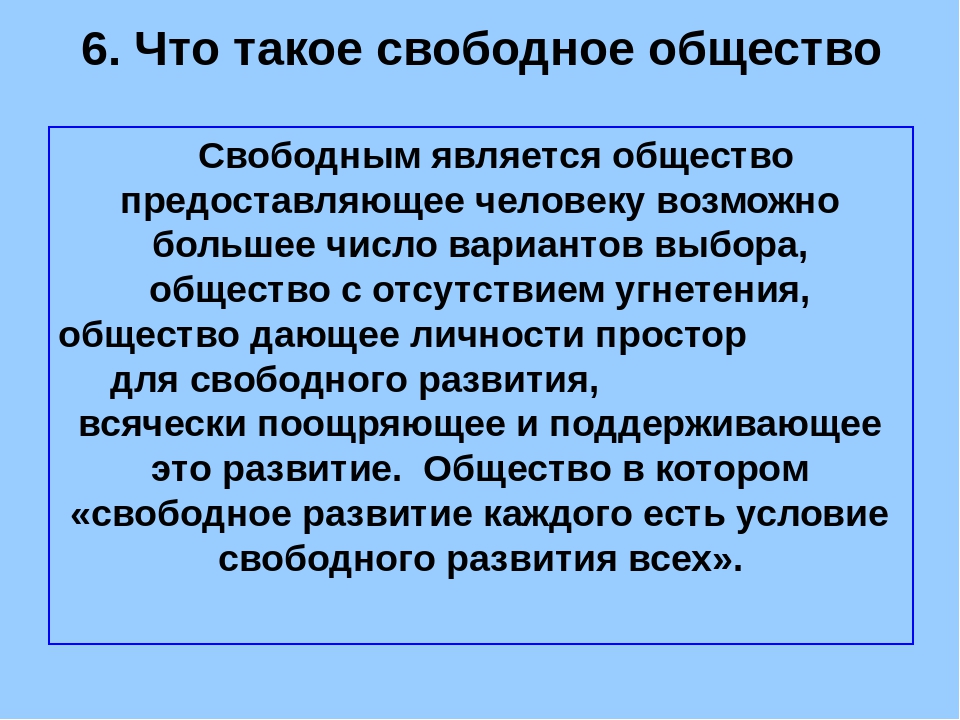 Если вы не соответствуете коду, то автоматически исключаетесь из приличного вакационного пространства.
Если вы не соответствуете коду, то автоматически исключаетесь из приличного вакационного пространства.
Любопытно, что именно «Свободой» называется праворадикальная партия Германии (Die Freiheit). Той же политической ориентации придерживаются Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs), Партия свободы Нидерландов (Partij voor de Vrijheid), всеукраинское объединение «Свобода» и прочие национальные организации, каждую из которых современные люди бесхитростно относят к фашистским.
Запрограммированные свободой, либералы и демократы безапелляционно отказывают в ней всем остальным. Необязательно выступать против, достаточно всего лишь не походить на них. Фашизма в «Волне» не больше, чем в школьном педагогическом совете, что не помешало уязвленным ученицам атаковать курс Венгера, упрекая его в тоталитарности.
В целях сохранения свободы послевоенная демократия стигматизировала любые напоминания фашизма, которые при должной подготовке можно обнаружить везде. Причем демократам и либералам даже не приходит в голову, что кто-то видит свою свободу иначе, как, например, перечисленные праворадикальные партии.
Свобода индивида, по мнению авторов Die Welle, лишь в том, чтобы имитировать других свободных. Это рекурсивное понятие, берущее начало от самых первых не пойми откуда взявшихся свободных. А значит, обвиняя всех непохожих в фашизме, тоталитаризме или автократии (мало кто различает эти понятия), они незаметно выводят из-под обстрела самих себя.
Свобода в таком прочтении ничем не отличается от несвободы.
После стрельбы на последнем собрании «Волны» полицейские ведут закованного в наручники Райнера Венгера к машине. Он всё еще господин Венгер? Или просто Райнер? Недавно ушедшая супруга, преподаватели, ученики и их родители провожают учителя тревожными взглядами.
Господин Венгер?
Или просто Райнер?
Полицейские сажают его в машину. Они трогаются с места. Дома и деревья проплывают за окнами. Арестованный смотрит перед собой стеклянными глазами.
— Куда меня теперь? — спрашивает он шепотом.
— В другую школу, — отвечает сидящий рядом полицейский.
Господин Венгер едет в другую школу… Он снова в свободном падении… мчится навстречу новой свободе.
Эпилог обесчеловечиванияРассматривая потребность в свободе, мы постоянно сталкиваемся с контрпродуктивностью усилий. Охваченный манией человек делает всё, чтобы отдалиться от объекта страсти. Иррациональный, алогичный и непоследовательный раб своих страхов и нелепых предрассудков.
Здесь уместно вспомнить биографию Элиаса Канетти «Спасенный язык». Центральное место в книге с подзаголовком «История одного детства» занимает мать писателя, что характерно для ребенка, рано потерявшего отца. Матильда Канетти выведена личностью экспрессивной, властной и до грубости бескомпромиссной.
Характерен эпизод, произошедший во время Первой мировой войны. Матильда Канетти принимает гостей, среди которых ведет яростную антивоенную агитацию. Войну она редуцирует до убийства, считая эти понятия синонимичными. Но первое слово, «война», Матильда не использует: слишком уж оно неприятное. Говоря о войне, дама называет ее иначе — убийством.
Среди гостей оказывает болгарский офицер, который тактично отстаивает иную точку зрения. Офицер отправлен в отставку из-за тяжелого ранения, которое до сих пор напоминает о себе невыносимыми болями. Все присутствующие знают о страданиях офицера, из-за которых он вынужден покидать приемы раньше остальных. И только пронизанная непоколебимым гуманизмом Матильда Канетти трактует уходы растерянностью: офицер не знает, как парировать ее доводы.
Однажды гость задает вопрос: будь он не болгарский, а русский офицер, который пожелал бы продолжать войну после выхода из нее России, как бы Матильда с ним поступила? Недолго думая, дама отправила офицера на виселицу: приспешникам войны, преступникам против человечества, не место среди живых.
Так замкнулся этот семантический фокус.
Объявляя войну убийством, то есть подменяя одно понятие другим, гуманизм Матильды Канетти, не раздумывая, отправил человека на смерть.Даже не на войну, где всё же остается вероятность уцелеть (и немаленькая), а сразу к расстрельному взводу.
Нацистов обвиняли в обесчеловечивании жертв, но чем отличаются от них гуманисты вроде вышеозначенной дамы? Может быть, холостыми зарядами в винтовках? Или — кажется, это более точно — холостыми идеалами, которые они столь сбивчиво отстаивают?
Что такое свобода? – Православный журнал «Фома»
Приблизительное время чтения: 14 мин.
Чаще всего о «свободе» говорят как о свободе в политическом смысле, свободе от тирании и угнетения со стороны других людей. Библия начинает рассказ о свободе на этом, наиболее простом, уровне. Бог Библии — это освободитель, причем освободитель в прямом и буквальном смысле. Десять Заповедей начинаются с торжественного провозглашения: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (Исх 20:2). Бог выводит Свой народ из рабства — вполне буквального рабства, в котором евреи пребывали в Египте, — сломив упорство угнетателей грозными чудесами и знамениями.
Бог выводит Свой народ из рабства — вполне буквального рабства, в котором евреи пребывали в Египте, — сломив упорство угнетателей грозными чудесами и знамениями.
Невозможно переоценить влияние, которое история Исхода оказала на формирование сознания христианского мира. Некоторые вещи, которые сейчас кажутся нам само собой разумеющимися, выглядели довольно странно в добиблейском мире. Бог, который становится на сторону рабов, на сторону угнетенных, на сторону бессильных, против сильных мира сего, — это было для современников странной, непонятной и даже возмутительной новостью. Боги язычников символизировали силу, могущество, победу, они были ближе к господствующим, царствующим слоям человеческого общества — и дальше всего от угнетенных и рабов.
Но Бог Закона и Пророков раз за разом оборачивается против сильных и славных и выступает на стороне бессильных и безвестных. Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо (Ис 58:6).
Не случайно восприятие свободы как универсальной ценности сложилось именно в христианском мире; и даже те, кто восставал и против Церкви, и против веры в Бога вообще, думая, что обретут этим бóльшую свободу, сознательно или нет апеллировали к библейским образам.
Свобода без Бога
Библейские пророки обрушивались на неправедных властителей — в том числе религиозных — от имени Бога; и многие движения, выступавшие против угнетения, носили отчетливо религиозный характер, будь то аболиционисты, выступающие за отмену рабства чернокожих, или движение за гражданские права в США в 1960-е годы, которое возглавлялось баптистским служителем Мартином Лютером Кингом.
Но в европейской истории сложилось и другое понимание свободы — свободы, не только оторванной от своих библейских оснований, но и прямо восстающей против веры в Бога. Впервые это движение заявило о себе во Франции конца XVIII века, где ряд известных мыслителей стали воспринимать Церковь как опору королевской власти и источник угнетения — угнетения, от которого надо было избавиться ради того, чтобы построить новую жизнь на началах разума, свободы и братства. Большая часть этих мыслителей придерживалась некой размытой и адогматичной религиозности, веры в Бога, которую надлежало «очистить» от церковных «суеверий»; но в том же движении появились и «чистые» атеисты, такие, как барон Поль Гольбах, яростно восстававшие против любой веры, библейской — особенно.
Большая часть этих мыслителей придерживалась некой размытой и адогматичной религиозности, веры в Бога, которую надлежало «очистить» от церковных «суеверий»; но в том же движении появились и «чистые» атеисты, такие, как барон Поль Гольбах, яростно восстававшие против любой веры, библейской — особенно.
«Заря свободы», воссиявшая над Францией в годы Великой французской революции, сначала вызвала взрыв восторга у мыслящей европейской публики, но потом известия, приходящие из Парижа, начали становиться все более и более мрачными: царство разума и свободы обернулось царством крови и террора. Начиная с «сентябрьской резни», когда толпа расправилась с тысячами людей в Париже и других городах, сочтя их «контрреволюционерами», и продолжая «адскими колоннами» генерала Тюрро, осуществившими то, что потом было названо «франко-французским геноцидом» в Вандее, революция повернулась своей другой стороной.
Как писал в своих «Размышлениях о революции во Франции» британский мыслитель Эдмунд Берк, «Что такое свобода без мудрости и добродетели? Это величайшее из всех возможных зол; это безрассудство, порок и безумие, не поддающиеся обузданию».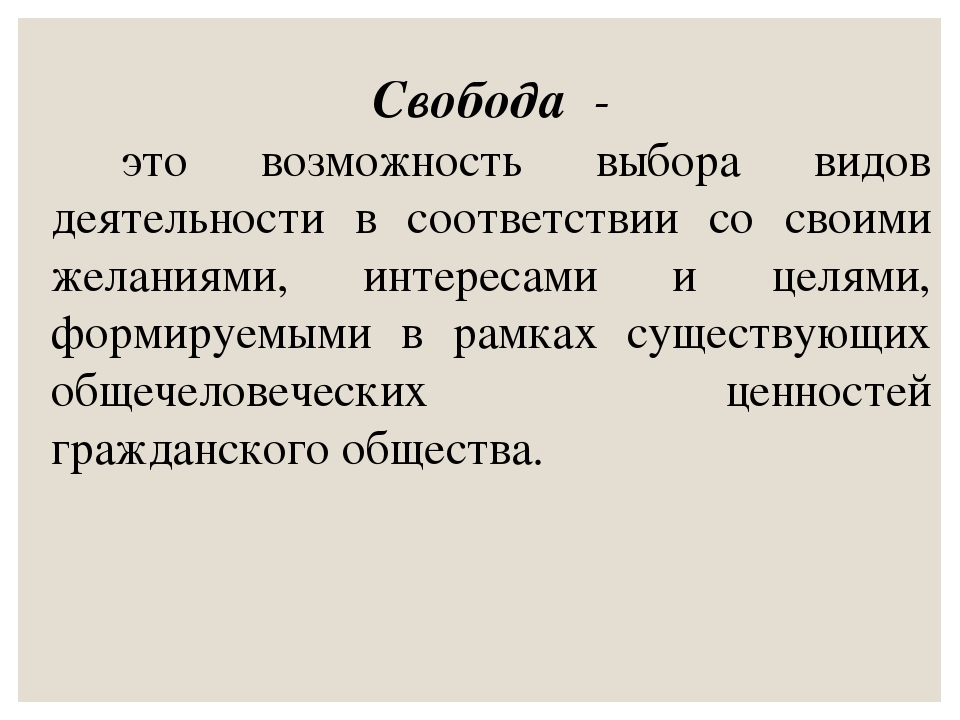
С тех пор мир пережил еще ряд кровавых революций, и одна из самых страшных произошла у нас в стране. Провозглашались лозунги свободы, равенства, братства, обещалась свобода от угнетения, люди воодушевлялись мечтами о дивном новом мире, но почему-то все это кончалось резней и установлением такой тирании, что по сравнению с ней низвергнутый революцией режим оказывался образцом свободы.
От «сентябрьской резни» в конце XVIII века до камбоджийских «полей смерти» в конце века ХХ обещание свободы оборачивалось большой кровью. Почему? Приведем еще одно высказывание Эдмунда Берка: «Значение свободы для каждого отдельного человека состоит в том, что он может поступать так, как ему нравится: мы должны понять, что ему нравится, прежде чем пришлем поздравления, которые в скором времени могут обернуться соболезнованиями».
Свобода от внешних стеснений, если ее обретает человек, лишенный внутренних принципов, оборачивается бедой. «Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы, — писал Берк, — с обретением им своих естественных прав? Это походило бы на эпизод освобождения преступников, осужденных на галеры, героическим философом — Рыцарем Печального Образа».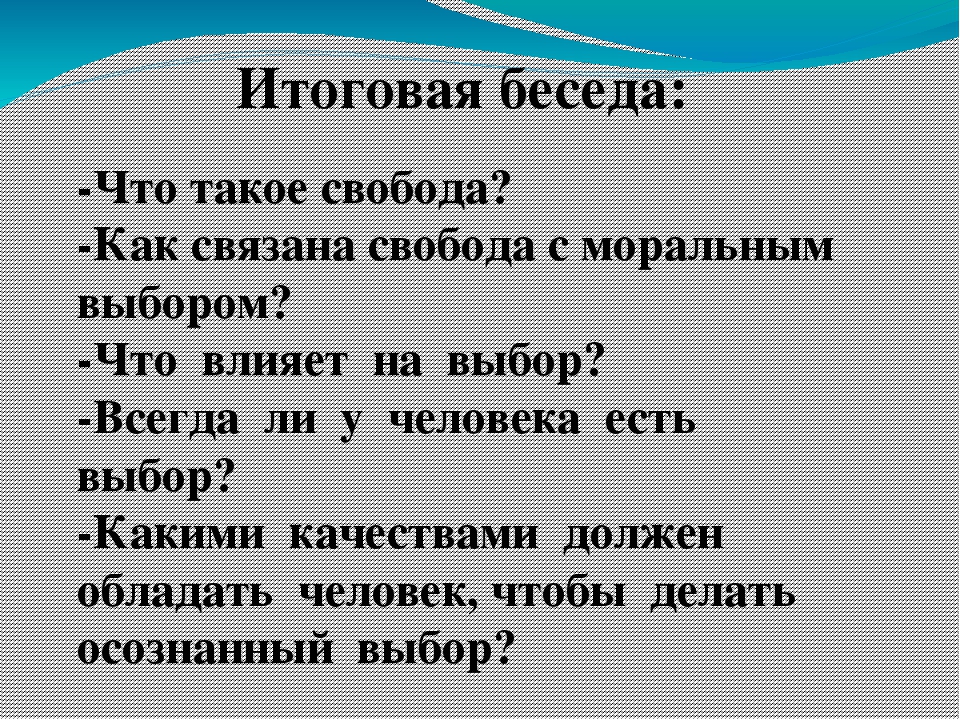
Поэтому свобода, о которой говорит Библия, это нечто гораздо большее, чем просто свобода от угнетения со стороны других людей.
Выбор есть всегда
В древнем мире разбойники, нападавшие на всех, кто путешествовал по дорогам, были постоянной проблемой. Власти не могли наладить патрулирование или справиться с задачей как-то иначе; поэтому они пытались компенсировать свое бессилие повышенной суровостью — захваченных разбойников предавали особенно мучительной смерти, что, как предполагалось, должно было отрезвляюще подействовать на остальных. Мы можем представить себе разбойника, который, как бы мы сказали, гуляет на свободе — он должен опасаться властей, но, с другой стороны, никто ему не господин, он не вынужден тяжело вкалывать на какого-нибудь хозяина, он может направляться куда хочет. И вот этого человека поймали, связали и бросили в темницу. Сохраняет ли он свободу? Очевидно, нет. Толстые каменные стены, железные решетки и суровая стража стоят между ним и вольным воздухом. Наконец, его приговорили и, по обычаю того времени, распяли — так, что он не может даже рукой пошевелить и вынужден терпеть невыносимую муку. Свободен ли этот человек? Сам вопрос может показаться издевательским. Но это вполне осмысленный вопрос, и на него существует точный ответ. Человек, который не может пошевелиться, тем не менее свободен принять самое важное решение в своей жизни. Мы читаем об этом человеке в Евангелии от Луки: Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк 23:39-43).
Наконец, его приговорили и, по обычаю того времени, распяли — так, что он не может даже рукой пошевелить и вынужден терпеть невыносимую муку. Свободен ли этот человек? Сам вопрос может показаться издевательским. Но это вполне осмысленный вопрос, и на него существует точный ответ. Человек, который не может пошевелиться, тем не менее свободен принять самое важное решение в своей жизни. Мы читаем об этом человеке в Евангелии от Луки: Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк 23:39-43).
Существует свобода, которую ничто не может у нас отнять — в любых обстоятельствах у нас есть выбор. Узник может озлобиться или покаяться; человек, прикованный к инвалидному креслу, может исполниться горечи, обиды и ненависти ко всему миру, а может обратиться к Богу и стать источником поддержки и утешения для окружающих его здоровых людей.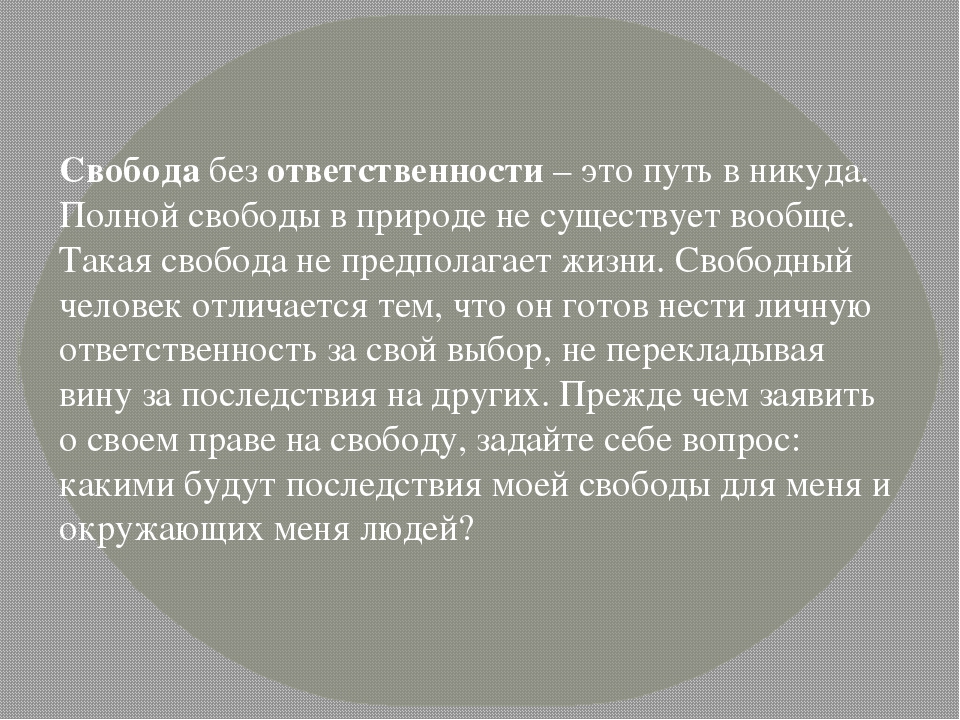 Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. Кажется, свобода выбора — это самоочевидный, непосредственно переживаемый нами опыт; тем не менее все мы склонны ее отрицать.
Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. Кажется, свобода выбора — это самоочевидный, непосредственно переживаемый нами опыт; тем не менее все мы склонны ее отрицать.
Это не я!
Третья глава Книги Бытия содержит удивительно глубокий и точный рассказ о грехе — первом грехе, но вместе с тем грехе вообще. Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? — спрашивает Бог у Адама. Кажется, можно дать только два ответа «да, я ел» или «нет, я не ел». Но Адам сказал: Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт 3:11,12). В том, что Адам нарушил заповедь, виновата жена — и, косвенно, Бог, который ему эту жену подсунул.
Адам совершил сознательный выбор — съел запретный плод. Но он говорит, что это выбор не его, что он определен кем-то или чем-то другим — женой, змеем, Богом, только не им, бедным Адамом.
С тех пор, как был записан этот рассказ, прошло очень много времени, но отношение людей к своей жизни остается тем же: мы склонны утверждать, что наши поступки определяются кем-то другим. Мы приходим в ярость потому, что другие люди нас злят; грешим потому, что другие люди вводят нас в соблазн; ненавидим ближнего своего потому, что он такой мерзавец, что мы не можем его не ненавидеть.
Мы приходим в ярость потому, что другие люди нас злят; грешим потому, что другие люди вводят нас в соблазн; ненавидим ближнего своего потому, что он такой мерзавец, что мы не можем его не ненавидеть.
Наши поступки вынуждены окружающими нас обстоятельствами — погодой, страной, в которой мы живем, генами, чем угодно еще — исключая наше личное произволение. Мы не виноваты — виноват кто-то другой, или, возможно, — это всех устраивает — мать-природа.
Почему мы так жаждем сложить с себя ответственность? Ведь это чудовищно глупо и разрушительно с чисто земной, практической точки зрения. Отказываясь признавать свои поступки полностью своими, мы утрачиваем контроль над своей жизнью.
Кто оказывается автором книги нашей жизни, если не мы сами? Другие люди, обстоятельства, наши собственные внутренние импульсы, которые мы даже не пытаемся контролировать. На капитанском мостике нашей жизни оказывается всякий прохожий, наш руль поворачивает всякий случайный порыв ветра, всякая чайка, присевшая на него передохнуть.
Что будет с нашей жизнью? Ничего хорошего. В лучшем случае она будет просто пустой и жалкой — мы ничего не достигнем и ничего не обретем. В худшем — мы просто разобьемся о рифы алкоголизма, наркомании или закончим наши дни в тюрьме. В самом деле, что объединяет людей, потерпевших жизненное крушение? Их вера в то, что их жизнь и их поступки определяются кем-то другим. Они запили, потому что окружающие относятся к ним по-свински; бросили семью, потому что домашние «никогда их не понимали»; совершили преступление, потому, что их довели или вынудили. Даже для того, чтобы на чисто мирском, посюстороннем уровне привести свою жизнь в порядок, надо признать, что мы свободны в том смысле, что сами принимаем решения и сами несем за них ответственность.
Иногда люди прибегают к более изощренному способу отрицать реальность выбора и ответственности: они придерживаются философии, которая вообще объявляет свободную волю иллюзией. Атеистическая философия материализма предполагает, что в мире нет ничего, кроме материи, движущейся по неизменным законам, а то, что мы воспринимаем как акты мышления или свободного выбора, — результат невероятно сложных, но чисто материальных процессов. Ваш выбор читать эту статью обусловлен электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга, эти процессы — предыдущим состоянием системы, входными сигналами и неизменными законами природы. У вас не больше свободы выбора, чем у любого другого природного процесса. Вам кажется, что вы совершаете свободный выбор, но, с точки зрения материалистов, это иллюзия.
Но в чем причина такого нелепого поведения? От чего такого страшного люди пытаются спастись, прибегая к столь пагубной лжи?
О том, что мы не можем не знать
Люди могут отрицать и реальность объективного закона, и реальность нашего свободного выбора; но это — такое шило, которого в мешке не утаишь. В действительности мы все глубоко верим в то и другое, и это видно из нашей склонности осуждать других людей. Как пишет святой апостол Павел, итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же (Рим 2:1).
Ведь для того, чтобы человеческие поступки составляли предмет вины или заслуги, необходимы два условия: во-первых, люди должны совершать их свободно; во-вторых, мы должны оценивать их с точки зрения какого-то закона, какого-то критерия добра и зла. Природный процесс — например, пищеварение — не является предметом нравственной оценки. Мы не ругаем человека за больной желудок и не хвалим за здоровый. Виновным человека могут делать только его свободные решения. Порицая кого-то, мы тем самым уже признаем, что он совершил свободный выбор, и этот выбор неправилен. В его воле было нарушать нравственный закон или соблюсти его, и он его нарушил; именно это делает его виновным и достойным осуждения.
Но чтобы закон делал его виновным, это должен быть объективный закон, который мы все обязаны соблюдать, независимо от того, признаем мы его или нет. Упрекая кого-то в аморальности, мы тем самым утверждаем реальность такой вещи, как мораль, которой другой человек обязан был придерживаться. Но, говорит Апостол, раз такой закон существует (и мы сами признаем это в отношении других людей), то он существует и в отношении нас самих. Нас самих могут потребовать — и потребуют — к ответу за его нарушение.
За законом стоит Законодатель и Судия, которому нам надлежит дать отчет. Перспектива возможного осуждения пугает нас — как Адама. И — как Адам — мы пытаемся смягчить наш страх, перекладывая вину на других или придумывая себе сложные системы самооправданий.
Признание того, что мы сами — авторы своих поступков, ставит нас перед неприятным фактом: мы совершили в своей жизни много дурного, и нам нечего сказать в свою защиту.
Если Сын освободит вас…
Человек изначально сотворен свободным — и злоупотребил своей свободной волей, чтобы сделаться весьма испорченным. Христос приходит, чтобы спасти нас от этой порчи. Но почему для этого понадобилась Голгофа? Почему Бог не может просто взять и отменить последствия наших грехов? Потому, что Бог наделяет нас реальной свободой выбора — с реальными последствиями. Наш выбор нельзя просто взять и отменить — это означало бы, что Его дар свободы с самого начала был недействительным. Бог поступает по другому — Он нисходит к нам и становится Человеком в лице Иисуса Христа, чтобы умереть за наши грехи. Как Он сам сказал на Тайной Вечере — и как с тех пор повторяет Церковь за каждой Литургией — сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:28). Это прощение грехов обретает каждый, кто прибегает к Нему с покаянием и верой; но свобода, которую приносит Христос, это не только свобода от вины за грехи.
Представьте себе наркомана, который совершил преступление, пытаясь добыть денег на очередную дозу — если только освободить его от осуждения, не излечив его порока, через короткое время он преступит закон опять. Так и грешный человек нуждается не только в прощении, но и глубокой внутренней перемене, которая освободит его от тяги ко греху. Поэтому Апостолы говорят о свободе в более глубоком смысле — свободе от греха, свободе для праведности, свободе соответствовать подлинному благу и предназначению человека.
В отсутствие внешних стеснений человек может делать то, что он хочет — но чего он хочет? Алкоголик остро хочет напиться; в то же время в глубине души он хочет избавиться от своего порока и жить трезвой и здоровой жизнью. Блудник хочет легкой, ни к чему не обязывающей связи — но в то же время в сердце своем он тоскует по настоящей, преданной любви. Мы одновременно хотим разных вещей, и часто наши собственные желания сковывают нас гораздо сильнее, чем тюрьмы и цепи.
Неспособность жить так, как мы должны — и так, как мы в минуты просветления хотим — составляет то горькое рабство, о котором Господь говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин 8:34). Гневливый человек не свободен сохранять спокойствие; блудник не свободен сохранять верность; алчный человек не распоряжается деньгами, но терпит, что деньги распоряжаются им. Так любой грех говорит о том, что наша человеческая природа ущербна, недостаточна, больна.
И Христос приносит нам новую жизнь, которая постепенно меняет нас изнутри; молитва, личная и церковная, наставления священников, участие в Таинствах, чтение слова Божия — те средства, которые Бог дает нам для духовного роста. Этот процесс обретения подлинной свободы не будет ни легким, ни гладким — Бог имеет дело не с пластилином, а со свободными личностями, которые продолжают падать и ошибаться — но, если мы последуем за Ним, Христос приведет нас к той вечной и блаженной жизни, для которой Он нас создал.
А если я скажу «нет»?
Евангелие есть книга надежды: самый потерянный грешник, человек, по общему мнению, безнадежно пропащий, может обратиться ко Христу и обрести спасение. Но что, если я откажусь? Как часто приходится слышать выраженное прямо или подразумеваемое требование: «я не собираюсь веровать и каяться, но вы мне пообещайте, что со мной будет все в порядке». Но это фактически означает, что мы должны отрицать за людьми их свободный выбор и уверять их, что их втащат в рай без их согласия. Мы этого не можем — это была бы просто неправда. Бог делает абсолютно всё, что можно, для спасения каждого человека — и Крест Христов напоминает об этом. Но человек может сказать «нет» — и отказаться от предложенного ему дара. Он может отказаться войти в дверь, куда его настойчиво приглашают, — и остаться за дверью.
Иногда говорят, что Бог слишком благ, чтобы оставить кого-либо за дверью — и это, конечно, правда. Бог примет и самого последнего грешника, но даже Бог ничего не может сделать с теми, кто отказывается быть принятым. Он хочет, чтобы мы оставались до конца свободными. Это только наш выбор. И наша ответственность — говорим мы да или нет, отзываемся на зов или отказываемся прийти.
Дверь Его дома открыта; ничто и никто не может помешать нам войти — как тому благоразумному разбойнику. Но никто не может сделать это за нас.
Что такое свобода? С чем ее едят? Нужна ли она? И если нужна, то зачем
Водка для Ивана Грозного
Человек пришел в Третьяковскую галерею. Выпил там культурненько водки. И шарахнул по знаменитой картине дрыном.
Что ни действие, ни проявление душевной склонности — разливанная свобода.
Возникает вопрос: зачем в музее торговать водкой? Но это ведь и есть подлинная свобода — разрешено то, что не запрещено. Издай указ, запрещающий розлив в музейной тишине алкоголя, — и поднимется волна негодущих протестов: с какой стати удушение, разве не свободны мы в своих человеческих потребностях, почему за нас решают, что, где и когда нам потреблять?
Продолжу эту линию. С какой стати кто-то решает, какие картины выставлять на обозрение, а какие держать в запасниках? С какой стати кто-то диктует, какую картину имею право продрать, чтоб другие на нее не пялились, а какую нет?
Напрашивается и вот какой аргумент: действия и помыслы разбушевавшегося гражданина диктовались развернувшейся в прессе дискуссией о правомерности увековечивания памяти Ивана Грозного и умножения количества памятников ему. То есть товарищ выступил с демократических позиций и негодовал на то, что тирану воздают слишком много почестей. Из чего прямо вытекает: за ушко и на солнышко тех, кто позволил вести в прессе подобные дискуссии. К ногтю издателей и идеологов свободы споров!
Ограничение волеизъявления в печати (и на митингах), следовательно, просто необходимо. Оно напрашивается. Институт цензуры востребован сегодня как никогда.
По какому же праву задержали светлого борца с дремучим мракобесием? Присмотримся к его личности и попытаемся отыскать в ней хоть одно темное пятнышко. Ну да, слегка привирал при знакомстве с женщинами, чтоб вовлечь их в близкие отношения. Перехватил маленько в самооправданиях: де картина оскорбляла чувства верующих… Не слишком следил за своим здоровьем (иначе давно обратился бы к врачам и оказался бы в психушке). Но трогательно ухаживал за больными родителями. И это — в общественном нарастающем позитивном мнении — искупает его мелкий неподотчетный разуму проступок. На наших глазах вандал превращается в героя, которому надо объявить благодарность, а не штрафовать и не в тюрьму сажать.
Слеза прошибает
Аналогичную картину (тоже почти репинскую) наблюдаем в деле отравленного Скрипаля. Поначалу тон комментариев был обличающий, в подтексте читалось: «Собаке — собачья смерть» (хоть Россия к этому покушению и непричастна, но бог не фраер, правду видит и шельму метит). Однако с течением времени интонации плавно и шелковисто изменились: поскольку ни сам Скрипаль, ни его дочь прямо не обвинили Россию в причастности к атаке на себя, в репортажах и сводках об их выздоровлении стали проскальзывать нотки сочувствия, а то и похваливания. И чуть ли не превозношения. Как-то забылось, что в истоке пребывания Скрипаля в Англии — его не слишком корректный поступок по отношению к вскормившей шпиона стране. Прозвучало почти что гордое: он не хотел быть мелкой монетой в обмене на пойманных российских коллег, хотел досидеть назначенный ему срок, искупить вину и остаться после этого на родине, которую горячо любит.
Слеза прошибает читать такое. Ему бы чуть раньше подумать о том, к чему может привести торговля интересами организации (уж не говорю России), которой он на высоком посту не слишком честно и ревностно служил.
В самом деле: чего ему не хватало? Военный атташе в Испании. Упакован и обеспечен по гроб жизни. Но, видно, показалось маловато благ.
То, о чем говорю, имеет прямое отношению к заявленной в начале этих заметок теме — теме свободы. Свободы волеизъявления, свободы выбора.
Кто мог нашему резиденту, добившемуся высоких карьерных успехов, лучше него самого разъяснить, что ему можно делать, а что возбраняется? Он был целиком и полностью свободен в своих предпочтениях. (О такой свободе наши рядовые соотечественники и не мечтают.) И выбрал то самое, что приводит в недоумение высоколобых мыслителей и что является приоритетом для 50% россиян, — небедность. Неугрозу даже самого маленького намека на материальную необеспеченность. Он, пожив на Западе, как огня боялся вполне реальной нищеты, которая (согласно его опасениям) могла ожидать привыкшего роскошествовать военного посланника на родной земле. Что ж удивляться, если неатташе и неразведчики, еле сводящие концы с концами и получающие крохи, которых не хватает на жилье, еду, лекарства, озабочены не высокими мотивами о демократии, а приземленными убогими интересами — низменными, корыстными, позорными, приспособленческими ухищрениями, как выжить?
Кто превращает страну в крематорий?
«Зимняя вишня» (романтическое название!) сгорела из-за того же, из-за чего пострадало полотно Ильи Ефимовича: из-за нищеты обобранной, замороченной, зашуганной страны и алчности тех, кто нещадно обдирает ее ресурсы и население. Буфет, где торговали водкой, приносит доход, возможно, больший, чем искусство. Подозреваю, что буфет диктовал в Третьяковке каноны и правила хорошего моветона, так же как торговцы всем, чем только можно торговать (в самом широком смысле этого термина) продиктовали «Зимней вишне» способ превращения ее кинозала в крематорий.
Свобода у того, кто имеет деньги. У остальных — обязанности и долги по отношению к подлинно свободным. К работодателям (а эту роль все чаще исполняет само государство), к чиновникам, которые закрывают глаза на очевидные нарушения, к криминалу, который распространил свою антимораль на детей и взрослых. Диктаторы безнравственности твердо утвердились на вершине пирамиды, попирающей остальное население. Они принимают законы, не позволяющие перечить произволу (а иначе получается оскорбление верховных лиц государства и чувств верующих), понуждают публиковать загоняющие ум за разум статьи и рисовать благостные пейзажи, застящие подлинную разруху и нереиновационные руины. Нравственность перевернута с ног на голову, повсюду царят воровство и ханжество: считается, что если по ТВ рекламируют безалкогольное пиво, то об алкогольном ни у кого мысли не возникнет. Ну а если так, то возле школы вином торговать нельзя, а в музеях — для усиления эстетического эффекта — необходимо.
Необходима как хлеб
Чтобы выпестовать свободу, нужны и вожжи, и узда: не каждый умеет обуздать себя сам. Путь к самоограничению долог и, возможно, бесконечен. Но до тех пор, пока в обществе будут существовать умышленные препоны на этом пути и не будут поставлены твердые, ясные и честные ориентиры справедливости, нечего ждать от конкретных индивидов соблюдения очевидных, писаных, однако не для всех обязательных правил.
Свободу надо терпеливо растить, кропотливо воспитывать — в каждом и ежечасно. А не вспоминать о ней от случая к случаю и лишь по поводу разгона демонстрантов нагайками. Есть свобода выходить на демонстрации — и есть свобода отправлять за это в кутузку. Есть свобода наслаждаться шедеврами — и есть свобода насаждать чучела на центральных площадях. Весь вопрос в том, какую свободу предпочесть и поддерживать.
Помнится, многотысячные митинги восьмидесятых-девяностых на Манежной площади и в Лужниках дали мощный импульс пробуждению гражданского самосознания. Тогда власть (возможно, из страха) и народ на короткий миг стали единым целым. То была неконтролируемая волна гнева, несогласия, возмущения, и трое мальчиков, жертвуя собой ради всей страны, бросились под танки. То был их выбор — ради общей свободы. Ныне есть возможность, не доводя до танков, осмысленно и не спонтанно двигаться в сторону необмана и неубийств.
Свободу едят вперемешку со слезами. Не у каждого хватит сил и смелости примкнуть к слабой стороне (и этим усилить ее). Большинство всегда на полюсе позиционного превосходства. В этом и заключается трудность (чтоб не сказать трагедия). В этой проклятущей свободе выбора. Как рифмовал Евтушенко, «с кем ты — с Мастером или с Воландом?».
Свободу не намажешь на хлеб. Но без этой эфемерности очень скоро не станет и самого хлеба (что видим на примере Северной Кореи).
Ханна Арендт. Что такое свобода?
IПоднять вопрос, что такое свобода, кажется безнадежным предприятием. Как если бы вековые противоречия и антиномии подстерегали тут ум, чтобы вогнать его в дилеммы логической невозможности, так что смотря за какой рог дилеммы вы возьметесь, помыслить свободу или ее противоположность оказывается так же невозможно, как построить понятие квадратного круга. В простейшей ее форме трудность можно суммировать как противоречие между нашими совестью и сознанием, говорящими нам что мы свободны и потому ответственны, и нашим повседневным опытом во внешнем мире, где мы ориентируемся в согласии с принципом причинности. Во всех практических и особенно в политических делах мы принимаем человеческую свободу за самоочевидную истину, и именно на этом аксиоматическом допущении в человеческих сообществах устанавливаются законы, принимаются решения, выносятся суждения. Во всех областях научного и теоретического усилия, наоборот, мы действуем в согласии с не менее самоочевидной истиной nihil ex nihilo, nihil sine causa, т.е. на том допущении, что «даже наши собственные жизни, если строго разобраться, подвержены причинности», что если в нас есть в конце концов свободное эго, оно заведомо никогда не совершает недвусмысленных появлений в феноменальном мире и потому никогда не может стать предметом теоретического удостоверения. Так что свобода оказывается миражом в тот самый момент когда психология заглядывает в, предположительно, ее интимнейшее царство; ибо «роль, какую сила играет в природе как причина движения, имеет своим соответствием в духовной сфере мотив как причину поведения» [ 1 ] . Верно то, что тест на каузальность — предсказуемость следствия, коль скоро все причины известны, — неприложим к области человеческих поступков; но эта практическая непредсказуемость не тест на свободу, она означает лишь, что мы никогда не в состоянии знать всех причин, входящих тут в игру, отчасти просто из-за количества привходящих факторов, но также и потому что человеческие мотивы, в отличие от природных сил, всё еще прячутся от любых наблюдателей, от инспекции собратьев по человечеству, равно как и от интроспекции.
Важнейшим прояснением этих туманных вопросов мы обязаны Канту с его пониманием того, что свобода не в большей мере фиксируема внутренним чувством и в сфере внутреннего опыта чем теми чувствами, которыми мы познаем и понимаем мир. Правит или нет каузальность в хозяйстве природы и вселенной, она явно категория разума, который вносит порядок во все чувственные данные, какова бы ни была их природа, и так делает возможным опыт. Поэтому антиномия между практической свободой и теоретической несвободой, равно аксиоматичными в своих соответствующих областях, не просто касается дихотомии между наукой и этикой, но проходит через повседневный жизненный опыт, от которого по-своему отталкиваются и этика и наука. Вовсе не научная теория, а сама же мысль, в ее донаучном и дофилософском понимании, по-видимому низводит свободу, лежащую в основе нашего практического поведения, до ничто. Стоит нам задуматься о любом предпринимаемом нами действии исходя из предпосылки, что мы свободные деятели, как оно явственно подпадает под два рода каузальности, во-первых, каузальности внутренней мотивации, во-вторых, каузального начала, правящего во внешнем мире. Кант спас свободу от этой двойной атаки на нее, введя различение между «чистым», или теоретическим, и «практическим» разумом, чье средоточие свободная воля, причем важно не упустить из виду, что свободная деятельная воля, в практическом отношении единственно важная, никогда не дает себя наблюдать ни в мире феноменов, ни во внешнем мире наших пяти чувств, ни в области внутреннего чувства, каким я ощущаю себя. Это решение, противополагающее приказ воли пониманию разума, весьма мудро и даже может быть достаточно для учреждения нравственного закона, логическая обоснованность которого никоим образом не ниже чем у природных законов. Но этого мало для устранения важнейшей и опаснейшей трудности, а именно той, что мысль сама, в ее теоретической, равно как в дотеоретической форме, элиминирует свободу — не говоря уж о вопиющей странности того, что сила воли, чья суть в приказе и команде, должна служить тут гарантией свободы.
В вопросах политики проблема свободы решающа, кардинальна, и ни одна политическая теория не может позволить себе оставаться безучастной к тому факту, что эта проблема завела в «темный лес где философия сбилась с пути» [ 2 ] . Нижеследующие соображения предлагают видеть причину этой темноты в том, что феномен свободы вовсе не проявляется в царстве мысли, что ни свобода, ни ее противоположность не постигаются в том диалоге между мною и моей самостью, в ходе которого встают все важные философские и метафизические вопросы, и что философская традиция, чей источник в этом плане мы рассмотрим позднее, исказила, вместо того чтобы прояснить, саму идею свободы, как она дана в человеческом опыте, перенеся ее из исходной области — поля политики и человеческих дел вообще — во внутреннюю сферу, волю, где она открыта для анализа. Первым, предварительным оправданием этого подхода можно принять то, что исторически проблема свободы вообще последней из освященных веками великих метафизических вопросов — таких как бытие, ничто, душа, природа, время, вечность и т.д. — стала темой философского разыскания. Никто не занимался проблемой свободы во всей истории великой философии от досократиков до Плотина, последнего античного философа. И когда проблема свободы впервые появилась в нашей философской традиции, то жизнь ей дал опыт религиозного обращения — сначала Павла и затем Августина.
Поле, в котором свобода всегда была известна, не как проблема конечно, но как факт повседневной жизни, это сфера политики. И даже сегодня, знаем мы то или нет, вопрос политики и тот факт, что человек есть существо наделенное даром поступка, всегда неизбежно стоят в нашем уме, когда мы говорим о проблеме свободы; ибо поступок и политика, из всех способностей и возможностей человеческой жизни, это единственные вещи, которые, мы не могли бы даже помыслить без хотя бы допущения, что свобода существует, и мы вряд ли можем даже коснуться единой политической темы без имплицитного или эксплицитного прикосновения к теме человеческой свободы. Свобода сверх того есть не только одна из многих проблем и феноменов политической сферы в собственном смысле, таких как право, или власть, или равенство; свобода, которая лишь редко — во времена кризисов или революций — становится прямой целью политического действия, есть по сути причина того, что люди вообще живут вместе в политической организации. Без свободы политическая жизнь как таковая была бы бессмысленна. Raison d’être политики свобода и поле ее приложения действие.
Эта свобода, которую мы во всякой политической теории считаем само собой разумеющейся и которую даже певцы тирании должны всё же принимать в расчет, есть прямая противоположность «внутренней свободы», внутреннего пространства, куда люди могут бежать от внешнего принуждения и там чувствовать себя свободными. Это внутреннее чувство остается без внешних проявлений и оно по определению политически иррелевантно. Как бы ни было оно правомерно и как бы красноречиво его ни описывали в поздней античности, исторически оно поздний феномен и исходно явилось результатом отчуждения от мира, причем мирской опыт трансформировался во внутренний опыт самости. Опыт внутренней свободы производен в том смысле, что всегда предполагает уход от мира, где в свободе отказано, в интимность, куда никто другой не имеет доступа. Внутреннее пространство, где самость укрыта от мира, не надо путать с сердцем или умом, которые оба существуют и функционируют только во взаимоотношении с миром. Не сердце и не ум, а внутреннее пространство как место абсолютной свободы было открыто внутри своей самости в поздней античности теми, кто не имел собственного места в мире и потому был лишен в мире условий, какие от ранней античности почти до середины 19 века единодушно принимались за предпосылку свободы.
Производный характер этой внутренней свободы или теории, что «надлежащая область человеческой свободы» есть «внутренняя сфера сознания» [ 3 ] , вырисовывается яснее, если обратиться к ее истокам. Не новоевропейский индивид с его желанием развернуться, развиться и расшириться, с его оправданным страхом, как бы общество не взяло верх над его индивидуальностью, с его патетическим подчеркиванием «важности гения» и оригинальности, но популярные популяризаторы, сектанты поздней античности, вряд ли имевшие что общего с философией кроме имени, представительны в этом аспекте. Так, самые убедительные доводы в пользу абсолютного превосходства внутренней свободы можно найти еще в одном эссе Эпиктета, начинающегося с тезиса, что свободен тот, кто живет как хочет [ 4 ] , — определение, причудливо перекликающееся с тезисом из аристотелевской «Политики», где слова «свобода значит делать то что человеку нравится» вложены в уста тех, кто не знает что такое свобода [ 5 ] . Эпиктет переходит потом к доказательству, что человек свободен если ограничивает себя тем что в его власти, если не вторгается в область где ему могут помешать [ 6 ] . Эта «наука жизни» [ 7 ] состоит в умении различать между чуждым миром, над которым человек не властен, и самостью, которой он может располагать по своему усмотрению [ 8 ] .
В плане истории интересно отметить, что появлению проблемы свободы в философии Августина предшествовала таким образом сознательная попытка развести понятие свободы с политикой, прийти к формуле, которая позволила бы оставаться рабом в мире и всё же свободным. Концептуально однако свобода Эпиктета, состоящая в том чтобы быть свободным от своих собственных желаний, есть не более чем перевертывание расхожих античных политических понятий, и политический фон, на котором формулировалась вся эта система популярной философии, явный упадок свободы в Римской империи, еще вполне прозрачно дает о себе знать в той роли, какую там играют такие понятия как власть, господство и собственность. По античным понятиям, человек может освободить себя от необходимости только через власть над другими людьми, и он может быть свободным только если владеет местом, домом в мире. Эпиктет превратил эти мирские отношения в отношения внутри собственной самости человека, открыв таким путем, что ни одна власть не так абсолютна как та, в которой человек владеет собой, и что внутреннее пространство, где человек переборол и покорил себя, в более полной мере его собственность, то есть надежнее защищено от внешнего вмешательства, чем это возможно для любого мирского жилья.
Отсюда, несмотря на огромное влияние, оказанное концепцией внутренней, неполитической свободы на традицию мысли, кажется надежным утверждение, что человек не знал бы ничего про внутреннюю свободу, если бы не имел сперва опыта жизни в условиях осязаемой, реальной мирской свободы. Мы впервые ощущаем свободу или ее противоположность в общении с другими, не в общении с собой. Прежде чем стать атрибутом мысли или качеством воли, свобода была понята как статус свободного человека, позволение двигаться, уйти из дома, выйти в мир и встретить тут других на деле и в слове. Этой свободе явно предшествовало освобождение: чтобы быть свободным, человек должен был уже выпростаться из зависимости от жизненных необходимостей. Но статус свободы не следовал автоматически за актом освобождения. Свобода требовала, вдобавок к простому освобождению, сообщества других людей, пребывающих в том же статусе, и она требовала общего публичного пространства, где можно встретиться с ними, — иначе говоря, политически организованного мира, куда каждый из свободных людей мог ввести себя словом и делом.
Очевидно, не всякая форма человеческого общения и не всякий вид общности характеризуются свободой. Где люди живут вместе, но не образуют политического организма, — как например в племенных обществах или в приватности домохозяйства, — там факторы, правящие их действиями и поведением, это житейские нужды и забота о поддержании жизни, не свобода. Больше того, везде, где созданный человеком мир не становится сценой для действия и речи — как в обществах с деспотическим правлением, изгоняющих своих субъектов в домашнюю тесноту и так пресекающих подъем публичной сферы — свобода не имеет реальности в мире. Без политически гарантированной общественной сферы свобода не имеет в этом мире места, где бы она проявилась. Она наверное может еще обитать в человеческих сердцах как желание, или воля, или надежда, или томление: но человеческое сердце, как все мы знаем, очень темное место, и что происходит в его мраке, вряд ли можно назвать показуемым фактом. Свобода как показуемый факт и политика совпадают и соотносятся друг с другом как две стороны одной вещи.
Однако в свете нашего современного политического опыта мы не можем принимать это совпадение политики и свободы за само собой разумеющуюся данность. Подъем тоталитаризма, его претензия на умение подчинить все сферы жизни требованиям политики и его систематические непризнание гражданских прав, прежде всего права на частную жизнь и права на свободу от политики, внушает нам сомнение не только в совпадении политики и свободы, но и в самой их совместимости. Мы склонны верить, что свобода начинается где политика кончается, потому что видели, как исчезла свобода, когда так называемые политические соображения подчинили себе всё остальное. Не за либеральным ли кредо, «чем меньше политики тем больше свободы», всё-таки правда? Не так ли, что чем меньше пространство, занятое политическим, тем шире область, оставленная свободе? В самом деле, не правы ли мы, измеряя широту свободы в любой данной общности свободным простором, который она по-видимому дает неполитической деятельности: свободе экономического предпринимательства или свободе образования, религии, культурной и интеллектуальной деятельности? Не верно ли, как все мы неким образом верим, что политика совместима со свободой лишь поскольку и насколько гарантирует свободу от политики?
Это определение политической свободы как потенциальной свободы от политики не просто навязано нам нашим самым свежим опытом; оно играло большую роль в истории политической теории. Тут достаточно вспомнить хотя бы политических мыслителей 17 и 18 веков, большей частью прямо отождествлявших политическую свободу с безопасностью. Высшим назначением политики, «целью правительства» считалась гарантия безопасности; безопасность в свою очередь делала возможной свободу, а слово «свобода» обозначало квинтэссенцию деятельности, происходящей вне политической области.
Даже Монтескье, хотя он имел не только другое, но и более высокое мнение о существе политики чем Гоббс и Спиноза, мог всё же при случае приравнивать политическую свободу к безопасности [ 9 ] . Подъем политических и социальных наук в 19 и 20 веках даже расширил разрыв между свободой и политикой; ибо правление, с самого начала новоевропейской эпохи отождествлявшееся со всей областью политического, отныне рассматривалось как институт защиты не столько свободы, сколько жизненного процесса, интересов общества и индивидов. Безопасность осталась решающим критерием, но не безопасность индивида от «насильственной смерти» как у Гоббса (у которого условием всякой свободы является свобода от страха), а безопасность, позволяющая беспрепятственно развиваться жизненному процессу общества как целого. Этот жизненный процесс не связан со свободой, а следует своей собственной внутренней необходимости; и его можно назвать свободным только в том смысле, в каком мы говорим о свободно текущем потоке. Здесь свобода даже и не внеполитическая цель политики, а лишь маргинальный феномен — неким образом прочерчивающий границу, которую правительство не смеет нарушать, разве что ставкой окажется сама жизнь и ее непосредственные интересы и потребности.
Так что не только мы, имеющие свои особые причины не доверять политике во имя свободы, но всё Новое время отделяет свободу от политики. Я могла бы даже пойти еще глубже в прошлое и сослаться на более старые воспоминания и традиции. До-новоевропейская секулярная концепция свободы подчеркнуто настаивала на отделении свободы субъекта от всякого прямого участия в управлении; народные «вольность и свобода состоят в правлении через такие законы, по которым жизнь и достояние людей могут быть в наибольшей мере их собственными; они не за участие в управлении, это к ним ничуть не относится» — как это подытожил Карл I в своей речи на эшафоте. И когда народ в конце концов начал требовать себе участия в правлении или допуска в политическую сферу, то это было не из желания свободы, а от недоверия к тем, кто имел власть над жизнью и достоянием. Христианская концепция политической свободы, больше того, выросла из подозрения и вражды ранних христиан ко всей публичной сфере как таковой, от забот которой они требовали избавления ради свободы. И этой христианской свободе во имя спасения предшествовало, как мы видели ранее, воздержание философов от политики как предпосылка высшего и свободнейшего образа жизни, vita contemplativa.
Несмотря на громадный вес этой традиции и несмотря на пожалуй даже более убедительное давление нашего собственного опыта, причем оба подталкивают в том же направлении разведения свободы и политики, я думаю, читатель может подумать, что прочитал лишь старый трюизм, когда я сказала, что raison d’être политики свобода и что эта свобода исходно дает о себе знать в действии. В нижеследующем я буду заниматься не более чем рефлексией над этим старым трюизмом.
II
Свобода как отнесенная к политике не феномен воли. Мы имеем здесь дело не с liberum arbitrium, свободой выбора, которая взвешивает и решает между двумя данными вещами, одной хорошей и одной плохой, и решение которой предопределено мотивом, нуждающимся лишь в формулировке чтобы вступить в действие, —
И потому, раз я любить не в силах,
Чтоб дней сих красоту и блеск ценить,
Явить себя злодеем я решился
И дней сих праздные услады ненавидеть.
Скорее это, если не расставаться с Шекспиром, свобода Брута: «Да будет так; иль мы падем в борьбе», т.е. свобода призвать к бытию что-то ранее не существовавшее, что-то не данное, ни даже как предмет познания или воображения, и что поэтому, строго говоря, не могло быть известно. Действие, чтобы быть свободным, должно быть с одной стороны свободно от мотива, а с другой — от намеченной цели как предсказуемого следствия. Это не значит что мотивы и цели маловажные факторы в каждом отдельном поступке, но они его детерминирующие факторы, и действие свободно настолько, насколько способно их трансцендировать. Поступок, насколько он детерминирован, ведом будущей целью, желаемость которой ум схватывает до того как воля этого хочет, причем ум взывает к воле, так как только воля может диктовать действия, — перефразируя характерное описание этого процесса Дунсом Скотом [ 10 ] . Цель поступка меняется и зависит от изменчивых обстоятельств мира; сознание цели дело не свободы, но правого или ложного суждения. Воля, взятая как особая и отдельная человеческая способность, следует суждению, т.е. знанию правой цели, и тогда велит ее достичь. Власть велеть, диктовать поступок не черта свободы, а вопрос силы или слабости.
Поступок, насколько он свободен, не состоит ни под водительством ума ни под диктатом воли — хотя нуждается в обоих для достижения любой практической цели, — а происходит из чего-то совершенно другого, что (следуя знаменитому анализу форм правления у Монтескье) я буду называть принципом. Принципы работают не изнутри самости, как мотивы, — «мое собственное безобразие» или моя «прекрасная соразмерность», — но вдохновляют как бы извне; и они слишком всеобщи, чтобы предписывать конкретные задачи, хотя о всякой конкретной цели можно судить в свете ее принципа, коль скоро поступок был начат. Ибо в отличие от суждения ума, предшествующего поступку, и в отличие от веления воли, которая его начинает, вдохновляющий принцип полностью проявляет себя только в самом осуществляющем его действии; но при том что достоинства суждения утрачивают свою ценность, а сила воли исчерпывается в ходе поступка, который сообща ими осуществляется, вдохновляющий принцип ничуть не теряет в силе или ценности через исполнение. В отличие от цели действия его принцип может повторяться снова и снова, он неисчерпаем, а в отличие от мотива ценность принципа универсальна, он не привязан ни к частному лицу ни к отдельной группе. Однако проявление принципов происходит только через поступок, они явствуют в мире лишь пока длится поступок, но не долее того. Такие принципы — честь или слава, любовь или равенство, которое Монтескье называл добродетелью, или исключительность, или превосходство — греческое ἀεὶ ἀριστεύειν «всегда стремись сделать как можно лучше и быть лучше всех»), но также страх, или недоверие, или ненависть. Свобода или ее противоположность дает о себе знать в мире всякий раз, как подобные принципы осуществляются; явление свободы, подобно манифестации принципов, совпадает с совершением поступка. Люди бывают свободны — в отличие от обладания ими даром свободы — пока действуют, ни до ни после; быть свободным и действовать одно и то же.
Свободу как укорененную в поступке пожалуй всего удобнее иллюстрировать макиавеллиевским понятием virtù, превосходства, с каким человек отвечает возможностям, которые мир открывает перед ним в облике фортуны. Его значение всего лучше передает «виртуозность», т.е. превосходство, относимое нами к исполнительским искусствам (в отличие от творческих искусств созидания), где совершенство лежит в самом исполнении, а не в законченном произведении, переживающем деятельность своего создателя и достигающем независимости от нее. Виртуоз-ность макиавеллевской virtù как-то напоминает нам о том факте, хотя вряд ли он был известен Макиавелли, что греки для отличения политический деятельности от прочей всегда применяли метафоры как игра на флейте, танец, врачевание и мореходство, то есть брали аналогии из тех искусств, где виртуозность исполнения решающа.
Поскольку всякий поступок содержит элемент виртуозности, а виртуозность как превосходство мы приписываем исполнительским искусствам, политику часто определяли как искусство. Это конечно не дефиниция, а метафора, и такая метафора становится вполне ложной, если впасть в общую ошибку рассмотрения государства или правления как произведения искусства, вроде коллективного шедевра.
В смысле творческих искусств, производящих нечто осязаемое и овеществляющих человеческую мысль до такой степени, что производимая вещь обладает собственным существованием, политика будет точной противоположностью искусству — что между прочим не значит что она наука. Политические институты, всё равно, хорошо или плохо устроенные, для длительного существования нуждаются в действующих людях; их сохранность достигается теми же средствами, какие дали им жизнь. Независимостью существования отмечено творение искусства как создание, произведение; полной зависимостью от дальнейших поступков для поддержания своего существования отмечено государство как производимое деятельностью.
Суть тут не в том, свободен ли художник творец в процессе созидания, но в том что творческий процесс не выставлен публично и не предназначен для явления в мире. Потому стихия свободы, определенно присутствующая в творческих искусствах, остается скрыта; в мире является и значим собственно не свободный творческий процесс, но сам шедевр, конечный продукт процесса. Исполнительные искусства, наоборот, действительно имеют большое сродство с политикой. Художники-исполнители — танцоры, артисты, музыканты и подобные — нуждаются в аудитории для показа своей виртуозности, так же как люди действия нуждаются в присутствии других, перед которыми они могут явиться; те и другие нуждаются в публично организованном пространстве для своей «работы»; те и другие зависят от других для самого исполнения. Такое пространство для выступления не само собой возникает везде, где люди совместно живут в обществе. Греческий полис был некогда именно той «формой правления», которая обеспечивала людей пространством для выступления, где они могли действовать, некоего рода театром, где могла явиться свобода.
Применять слово «политическое» в смысле греческого полиса и не произвол, и не натяжка. Не только этимологически и не только для ученых в самом слове, которое во всех европейских языках до сих пор происходит от исторически уникальной организации греческого города-государства, до сих пор звучит опыт общины, впервые открывшей существо и сферу политического. Поистине трудно и даже ошибочно вести речь о политике и ее глубинных принципах не заимствуя в известной мере из опыта греческой и римской античности, и это не по какой другой причине, кроме как потому что люди никогда, ни прежде ни после, не думали так высоко о политической деятельности и не наделяли ее сферу таким достоинством. Что касается отношения свободы к политике, тут есть та дополнительная причина, что только древние политические общины основывались ради специальной цели служения свободным — тем, кто и не раб, находящийся под принуждением других, и не работник, гонимый и теснимый жизненными нуждами. Если стало быть мы понимаем политическое в смысле полиса, его цель или raison d’être будет учредить и поддержать существование пространства, где может явиться свобода как виртуозность. Это сфера, где свобода реальна в мире, осязаема в словах, которые можно слышать, в делах, которые можно видеть, и в событиях, о которых говорят, помнят, создают легенды, пока они окончательно не включаются в великий учебник человеческой истории. Всё случающееся в этом пространстве явленности есть политическое по определению, даже если это не прямой результат действия. Что остается вне этого, как великие свершения варварских империй, может впечатлять и запоминаться, но это, строго говоря, не политическое.
Всякая попытка вывести понятие свободы из опыта политической сферы выглядит странной и шокирующей потому, что все наши теории этой материи подчинены концепции свободы как атрибута воли и мысли, а отнюдь не действия. И эта первичность не просто вытекает из концепции, что всякой активности должен психологически предшествовать когнитивный акт разума и команда воли для приведения в исполнение его решений, но другая, и возможно даже главная причина в мнении, что «совершенная свобода несовместима с существованием общества», что она терпима в своей полноте только вне сферы человеческих дел. Этот расхожий довод не утверждает — тут он пожалуй прав, — что в природе мысли требовать себе больше свободы чем любая другая человеческая деятельность, но держится скорее того, что мысль сама по себе не опасна, так что ограничения требует только поступок: «Никто не рассчитывает, что действия должны быть так же свободны как мнения» [ 11 ] . Это между прочим входит в фундаментальные положения либерализма, который, несмотря на свое имя, внес свою лепту в изгнание понятия свободы из политической сферы. Ибо политика, согласно той же философии, должна заниматься почти исключительно поддержанием жизни и обереганием интересов. И вот, где жизнь в опасности, всякое действие по определению оказывается подвластно необходимости, и сферой, призванной собственно взять на себя заботу о жизненных нуждах, становится гигантская и всё растущая зона социальной и экономической жизни, администрирование которой затмевает политическую сферу от самого начала Нового времени. Только иностранные дела, поскольку международные отношения еще оставляют место для вражды и симпатий, не поддающихся редукции к экономическим факторам, похоже остались в чисто политической области. И даже здесь пересиливает тенденция видеть в международных столкновениях и соперничестве всё-таки следствие экономических факторов и интересов.
Но как, наперекор всем теориям и измам, мы еще верим, что сказать «свобода есть raison d’être политики» не больше чем трюизм, точно так же, вопреки нашей по видимости исключительной озабоченности жизнью, для нас еще само собой разумеется, что мужество одна из основных политических добродетелей, хотя — будь здесь важнее всего последовательность, что явно не так, — мы должны были бы первыми осудить мужество как глупое и даже злостное презрение к жизни и ее интереса, к высшей, стало быть, цели всех благ. Мужество большое слово, и я не имею в виду авантюрную отвагу, охотно рискующую жизнью ради той полноты и остроты жизненного чувства, какая возможна только перед лицом опасности и смерти. Дерзость не менее озабочена жизнью чем трусость. Мужество, которое, мы всё еще верим, необходимо для политического действия и которое Черчилль однажды назвал «первым из человеческих свойств, потому что это свойство гарантия всех других», не удовлетворяет нашему индивидуальному витальному чувству, но требуется от нас самой природой публичной сферы. Ибо этот наш мир, раз он существовал до нас и, надо думать, будет долговечнее наших жизней в нём, просто не может позволить себе уделить первую заботу индивидуальным жизням и связанным с ними интересам; как таковая публичная сфера состоит в острейшем, какой только возможен, контрасте с нашей частной сферой, где в защищенности семьи и дома всё служит и должно служить обеспечению процесса жизни. Мужество надобно даже чтобы оставить защитную безопасность наших четырех стен и войти в политическую сферу, не из-за особых опасностей, возможно подстерегающих нас, но потому что мы достигаем и области, где забота о жизни утратила свою ценность. Мужество избавляет людей от их тревоги за жизнь ради свободы мира. Без мужества нельзя, потому что в политике ставка не жизнь, а мир.
III
Очевидным образом эта идея взаимозависимости свободы и политики вступает в противоречие с социальными теориями Нового времени. К сожалению, отсюда не следует, что нам надо лишь вернуться к более старым, до-новоевропейским традициям и теориям. В самом деле, всего труднее достичь понимания, что такое свобода, из-за того обстоятельства, что простое возвращении к традиции, и особенно к тому, что мы имеем обыкновение называть великой традицией, нам не помогает. Ни философская концепция свободы, как она впервые сложилась в поздней античности, когда свобода стала феноменом мысли, посредством которой человек мог, так сказать, вымыслить себя из мира, ни христианское и новоевропейское понятие свободы воли не имеют никаких корней в политическом опыте. Наша философская традиция почти единодушна в своем убеждении, что свобода начинается, где люди оставили сферу политической жизни, заселенную толпой, и что мы имеем ее опыт не ассоциируясь с другими, но в общении со своей самостью — или в форме внутреннего диалога, который со времен Сократа мы называем мышлением, или в конфликте внутри меня самого, душевном борении между тем, что я должен и что я делаю, убийственная диалектика которого вскрыла сперва для Павла и затем для Августина двусмыслицы и бессилие человеческого сердца.
Для истории проблемы свободы христианская традиция стала поистине решающим фактором. Мы почти автоматически приравниваем свободу к свободе воли, то есть к способности, по сути неведомой классической древности. Ибо воля, какою ее открыло христианство, имеет так мало общего с хорошо знакомыми силами желания, интенции, намерения, что она привлекла внимание лишь когда вошла в конфликт с ними. Будь свобода действительно лишь феномен воли, нам пришлось бы заключить, что древние не знали свободы. Это конечно абсурдно, но если бы кто захотел такое утверждать, то мог бы опереться на выше мною упомянутое, а именно, что идея свободы не играла никакой роли в философии до Августина. Причиной этого поразительного факта было, что в греческой, равно как в римской древности свобода была исключительно политическим концептом, по сути квинтэссенцией города-государства и гражданства. Наша философская традиция политической мысли, начиная с Парменида и Платона, эксплицитно основывалась на оппозиции к этому полису и его гражданству. Образ жизни, избранный философом, понимался по противоположению к βίος πολιτικός, политическому образу жизни. Свобода, самое средоточие политики как ее понимали греки, была идеей, которая почти по определению не могла встроиться в здание греческой философии. Лишь когда ранние христиане, и особенно Павел, открыли род свободы, не имевшей отношения к политике, понятие свободы смогло войти в историю философии. Свобода стала одной из главных философских проблем, когда была воспринята как нечто имеющее место в общении между мною и моей самостью и вне общения между людьми. Свобода воли и свобода стали синонимичными понятиями [ 12 ] , а присутствие свободы испытывалось в полном одиночестве, «где ни одна душа не может помешать горячему спору, в который я вовлечен с самим собой», смертельный конфликт, развертывавшийся во «внутренней обители» души и в темной «келье сердца» [ 13 ] .
Классическая античность никоим образом не была неопытна в феномене одиночества; она очень хорошо знала, что одинокий человек уже не один, а дву-един, что общение между мной и моей самостью начинается с момента, когда общение между мной и моими ближними было прервано, неважно по какой причине. Вдобавок к этому дуализму, экзистенциальному условию мысли, классическая философия начиная с Платона настаивала на дуализме между душой и телом, причем человеческая способность движения была приписана душе, которая считалась движущей тело, равно как и саму себя, и в пределы всё той же платонической мысли входила интерпретация этой способности как господства души над телом. Однако августиновское одиночество «жаркого спора» внутри самой души было совершенно неизвестно, ибо борьба, в которую он оказался вовлечен, шла не между разумом и страстью, между пониманием и θυμός [ 14 ] , т.е. между двумя разными человеческими способностями, но это был конфликт внутри самой воли. И эта раздвоенность внутри одной и той же способности была известна как черта мысли, как диалог, который я веду с собой. Другими словами, дву-единство одиночества, приводящее процесс мысли в движение, имеет в точности противоположное воздействие на волю: оно ее парализует и замыкает внутри ее самой; волить в одиночестве значит всегда velle и nolle, хотеть и не хотеть в одно и то же время.
Парализующее воздействие, которое воля по всей видимости оказывает сама на себя, возникает с тем большей неожиданностью, что само ее существо явно в том чтобы велеть и добиваться повиновения. Потому кажется «чудовищным», что человек может велеть себе и не слушаться; чудовищность тут поддается объяснению только через одновременное присутствие некоего я-хочу и такого же я-не-хочу [ 15 ] . Это однако уже августиновская интерпретация; исторический факт тот, что феномен воли первоначально дал о себе знать в опыте, что чего я хочу, того не делаю; что есть такая вещь как хочу-и-не-могу. Что было неизвестно античности, это не то что случается знать-но-не-делать, а что я-волю и могу не одно и то же — non hoc est velle, quod posse [ 16 ] . Ибо простое я-волю-и-я-могу было конечно очень знакомо древним. Достаточно лишь вспомнить, как настойчиво повторял Платон, что только умеющие править собой имеют право управлять другими и быть свободными от обязанности послушания. И верно то, что владение собой осталось одной из специально политических добродетелей, хотя бы потому что это выдающийся феномен виртуозности, где я-волю и я-могу должны быть так хорошо настроены друг на друга, чтобы практически совпадать.
Знай античная философия о возможном конфликте между тем что я могу и тем что я волю, она наверное поняла бы феномен свободы как встроенное свойство всякого я-могу, или же она возможно определила бы его как совпадение я-волю и я-могу; она определенно не думала бы о нём как об атрибуте при я-волю или я-хочу. Это утверждение не пустая спекуляция; даже эврипидовский конфликт между разумом и θυμός, одновременно присутствующими в душе, был относительно поздним феноменом. Более типичным, а в нашем контексте более релевантным, было убеждение что страсть способна ослепить человеческий разум, но коль скоро разуму удалось заставить себя слышать, не остается страсти, которая помешала бы человеку сделать то, что он знает как правильное. Это убеждение еще стоит за учением Сократа о доблести как роде знания, и наше изумление, что кто-то когда бы то ни было мог думать что доблесть «разумна», что ей можно выучиться и учить, идет скорее от нашего знакомства с волей надломленной в себе, которая хочет и не-хочет в одно и то же время, чем от какого-то высшего прозрения в якобы бессилие разума.
Иными словами, воля, сила-воли и воля-к-власти для нас почти тождественные понятия; седалище власти для нас способность воли, как человек ее знает на опыте своего общения с собой. И ради этой силы воли мы оскопили не только наши способности разумения и познания, но и другие более «практические» способности тоже. Разве не ясно однако даже для нас, говоря по Пиндару, что «вот величайшая беда: стоять отвращая невольно стопы свои от правого и прекрасного, [под игом] принуждения» [ 17 ] ? Принуждение, не дающее мне делать то что я знаю и хочу, может идти от мира, или от моего собственного тела, или от недостатка талантов, одаренности и качеств, которыми человек наделен от рождения и над которыми он едва ли имеет больше власти чем над прочими обстоятельствами; и эти факторы, не исключая и психологические, затрагивают личность извне в том что касается ее я-волю и я-знаю, т.е. самого ее эго; сила, отвечающая этим обстоятельствам, избавляющая, так сказать, воление и знание от их рабства у необходимости есть я-могу. Лишь где я-волю и я-могу совпадают, происходит событие свободы.
Есть и еще способ сопоставить наше теперешнее понятие свободы воли, возникшее из религиозного конфликта и формулируемое на философском языке, с более древним, чисто политическим опытом свободы. В возрождении политической мысли, сопровождавшей восхождение Нового времени, мы можем различать между мыслителями, которых можно по справедливости назвать отцами политической «науки», поскольку они взяли себе подсказкой новые открытия естественных наук, — их крупнейший представитель Гоббс, — и теми кто, относительно незатронутый этими типично новоевропейскими сдвигами, прислушивался к политической мысли античности, не из какой-то привязанности к прошлому как таковому, но просто потому что разделение церкви и государства, религии и политики и дало возвыситься независимой секулярной, политической сфере, какая была неизвестна со времени падения Римской империи. Крупнейшим представителем этого политического секуляризма был Монтескье, который, оставаясь безразличен к проблемам чисто философской природы, глубоко ощущал неадекватность христианской и философской концепций свободы для политических целей. Чтобы избавиться от них, он специально различал между философской и политической свободой, и различие состояло в том, что философия требует от свободы не больше чем осуществления воли (l’exercice de la volonté), независимо от обстоятельств и от достижения поставленных волей целей. Политическая свобода, напротив, состоит в способности делать то, что следует волить (la liberté ne peur consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir — ударение делается на pouvoir) [ 18 ] . Для Монтескье было как и для древних ясно, что нельзя называть деятеля свободным, если у него недостает способности действовать — причем неважно, вызвана ли эта нехватка внешними или внутренними обстоятельствами.
Я выбрала пример владения собой потому что для нас это явно феномен воли и силы воли. […] [ 19 ]
Иван Напреенко: У россиян нет общего представления о том, что такое свобода и порядок
В мировой практике социологических исследований политические установки часто измеряются через отношение людей к свободе и порядку. Если респонденты полагают, что первое важнее второго, их считают либералами. Если дело обстоит наоборот – консерваторами.
В рамках исследования «Евробарометр в России», проведенного Центром социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) под руководством Виктора Вахштайна и Павла Степанцова, была предпринята попытка оценить, насколько распространены среди населения России ценности либерализма и консерватизма, а также выявить факторы, которые влияют на политические установки. В результате обнаружилось, что говорить о едином поле политических ценностей и смыслов в России невозможно: у респондентов отсутствует общее представление о том, что понимать под словами «свобода» и «порядок».
Участники опроса распределились следующим образом: 63% ответили, что порядок важнее свободы; 18%, т. е. практически в три раза меньше, полагают, что свобода важнее порядка. Доли респондентов, не относящих себя ни к либералам, ни к консерваторам, а также затруднившихся с ответом, составили в сумме 19%.
В ходе опроса выяснилось, что принадлежность к либералам или консерваторам практически не зависит от пола: гендерное распределение в группах схожее, за исключением того факта, что женщин среди приверженцев порядка несколько больше (55% среди консерваторов – женщины). Не зависят политические взгляды и от возраста.
Более того, либералы и консерваторы не различаются и по другим социально-демографическим характеристикам – уровень образования или дохода не влияет на политические ценности большинства респондентов.
На первый взгляд получается парадоксальная ситуация: консерватизм или либерализм оказывается случайной характеристикой. Они не связаны ни с поведением человека, ни с его социальным положением. Чем это можно объяснить?
Дело в том, что либералы и консерваторы по-разному понимают свободу. Это наглядно продемонстрировал семантический анализ: респондентов попросили назвать три слова, которые ассоциируются с понятием «свобода». В результате были выделены 20 семантических образов (см. таблицу 1).
Что важно, семантический анализ выявил ключевое различие между либералами и консерваторами. Для первой группы свобода – это прежде всего «природа», «дом и отдых», «свобода передвижения» и «свобода жизни». Другими словами, для либералов свобода не является политическим понятием (см. таблицу 2).
Среди консерваторов картина радикально иная (см. таблицу 3). В этой группе уживаются сразу два, причем прямо противоположных, образа свободы. С одной стороны, с ней чаще связаны беспорядки или преступность (16%), вседозволенность (2%). С другой – равенство и братство (7%), свобода слова (6%) и свобода выбора (5%).
Примечательно, что позитивный образ характерен для старшего поколения – людей, которые прожили большую часть жизни при СССР, где понятие свободы отсылало к Великой французской революции, а также конструировалось от противного: через несвободу слова и выбора. Второй образ, негативный, разделяют представители среднего возраста, чья основная часть жизни пришлась на постсоветский период. Именно они связывают свободу с беспорядками или преступностью и вседозволенностью.
Мы видим, что консерваторам присуще более политически окрашенное понимание слова «свобода», и это идет вразрез с тем, как понимают его либералы. Таким образом, выбирая между свободой и порядком, обе группы по-разному трактуют предложенные альтернативы. Предпочтение свободы порядку (и наоборот) оказывается укорененным не в политических ценностях или стратегиях поведения, а в чисто семантических коннотациях.
Интересно отметить, что именно те, кто связывает со свободой политические смыслы (как позитивные, так и негативные), предпочитают ей порядок. Напротив, люди, у которых нет политических ассоциаций со словом «свобода», считают, что она важнее порядка.
Результаты исследования показывают, что нельзя говорить о приверженности населения России ценностям либерализма или консерватизма в том смысле, который в них вкладывают западные исследователи. В нашем случае сфера политических ценностей оказывается предельно размытой. Базовые дихотомии (например, свобода – порядок) стираются, и причина тому – отсутствие общего смыслового контекста, который разделяют все группы населения.
Выражаем озабоченность: все учат всех понимать, что такое свобода | Новости Беларуси
Революция не дала тунисцам работу и не спасла от COVID
Тунис был единственной страной, в которой арабская весна победила. Но ни стабильности, ни процветания она не принесла. Тогда, в 2011 году, важной причиной, которая подтолкнула к восстанию, стала безработица. Но и после революции эта проблема не была решена.
А потом страну, в которой и без того не было экономической стабильности, подкосил COVID.
В эти выходные люди требовали отставки премьера и критиковали правящую партию “Эннахда”. А потом штурмовали её офисы и подожгли штаб-квартиру. Итог — президент уволил премьера и приостановил работу парламента на 30 дней.
Одни протестующие в беседе с агентством “Франс-Пресс” говорили, что президент “показал себя настоящим государственным деятелем”. Другие не были так оптимистичны:
— Эти дураки празднуют рождение нового диктатора.
После революции 2011 году в Тунисе сменилось уже 9 правительств.
В Афганистане погибают сотни мирных жителей
С начала года в Афганистане погибло больше 1,6 тысячи мирных жителей. Это намного больше, чем за первые 6 месяцев предыдущего года. Это рекордно много. И ООН предупреждает: смертей может стать ещё больше.
Ответственность за 64% жертв среди гражданского населения ООН возлагает на антиправительственные силы. Из всех пострадавших треть — это дети.
Силы правительства Афганистана борются с повстанцами Талибана, которые теперь контролируют значительную часть страны. Большинство международных сил выведены после окончания своей почти 20-летней миссии.
В субботу высокопоставленный командующий США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американцы продолжат наносить удары с воздуха, чтобы поддерживать афганские войска. Но продолжатся ли эти удары после официального завершения американской миссии 31 августа или правительство останется с Талибаном один на один — неясно.
Freedom Collection »Темы» Что такое свобода?
ТОНИ БЛЭР, премьер-министр 1997–2007, Соединенное Королевство: Иногда люди говорят о свободе так, как будто это американская ценность или британская ценность или западные ценности. Идея свободы заключается в том, что это универсальная ценность человеческого духа, и везде, в любое время и в любом месте люди получают возможность выбирать, они выбирают быть свободными, а почему бы и вам?
ХОРХЕ ЛУИС ГАРСИЯ ПЕРЕС, Куба: Для тех из нас, кто не родился на свободе и не знал ее, сам факт желания и борьбы за нее, не зная об этом, многое говорит о том, что это значит.
КИМ СЕОНГ-МИН, Северная Корея: На самом базовом уровне я чувствую, что свобода — это то, что дается каждому человеку. Права и счастье, которыми обладают люди, также входят в понятие свободы.
WAI WAI NU, Бирма: Для меня свобода означает, что основные права каждого человека предоставляются одинаково, с уважением и достоинством, независимо от различий.
КОНДОЛИЗЗА РАЙС, государственный секретарь 2005–2009, США: Люди пытались воплотить данное Богом право в политические права, чтобы защитить себя от тирании государства; от произвола тех, кто хочет нас уговорить.
БИРТУКАН МИДЕКССА, Эфиопия: В некотором смысле общественность впечатлила, что мы можем добиться политических изменений без насилия, вы знаете, просто посредством политических дебатов и урны для голосования.
ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС, Литва: Давайте спросим людей, как они хотят жить.
САРА БЕН БЕХИА, Тунис: Дело не в выборе политической партии слева или политической партии справа, а в том, чтобы пойти на голосование, потому что сотни людей погибли, чтобы вы пошли голосовать.
КАРЛ ГЕРШМАН, Национальный фонд демократии: Есть разница между правами и свободами. Права — это то, что люди имеют в силу того, что они люди, но гражданские свободы — это договорные обязательства, которые правительства должны уважать права людей. Они закреплены в конституциях, они закреплены в соглашениях и включены в понимание, которое правительства имеют со своими собственными людьми. Они здесь, чтобы служить людям, и они должны уважать права на свободу выражения мнений, свободу собраний, свободу печати и так далее.
TUTU ALICANTE, Экваториальная Гвинея: В случае нации законы являются наиболее существенными в управлении полномочиями государства, полномочиями представителей государства и полномочиями людей, которыми правит или управляет правительство.
БЕРТА СОЛЕР, Куба: Я хочу, чтобы люди могли свободно передвигаться, где люди могут иметь свой собственный бизнес, где могут происходить обмены между странами и где могут существовать люди с ценностями.
ЕГО СВЯТОСТЬ, XIV ДАЛАЙ-ЛАМА, Тибет: Для того, чтобы люди несли ответственность за свою страну, тогда лучшая система — это выборы; выборное руководство.
ХАН НАМ-СУ, Северная Корея: Я думаю, что демократическое правительство — единственная форма правления, которая стремится обеспечить свободу людей.
ФРЕНЕ ГИНВАЛА, Южная Африка: Слишком часто демократия рассматривается как событие, которое происходит раз в пять лет; ты идешь и голосуешь. Но это гораздо больше. Должно быть.
АММАР АБДУЛХАМИД, Сирия: Люди должны сами распоряжаться своей судьбой. Если вы действительно верите в демократию, вот как это работает.
АРМАНДО ВАЛЛАДАРЕС, Куба: Демократия — это будущее человечества, поскольку физическая и духовная реализация человека происходит через свободу.Без свободы нет демократии.
ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖ У. БУШ: Я верю, что свобода — это дар от Бога и надежда каждого человеческого сердца. Свобода вдохновила наших основателей и сохранила наш союз через гражданскую войну и обеспечила обещание гражданских прав. Свобода поддерживает скованных цепями диссидентов, верующих, сбившихся в подпольные церкви, и избирателей, которые рискуют своей жизнью, чтобы проголосовать. Свобода высвобождает творческий потенциал, поощряет инновации и заменяет бедность процветанием, и в конечном итоге свобода освещает путь к миру.
END
Что такое свобода? Что такое свобода?
Я родился в 1879 году. Несмотря на мрачное состояние сегодняшнего мира, нам важно смотреть дальше и вперед, чтобы увидеть перспективу. Одна из четырех свобод Франклина Делано Рузвельта — это свобода от страха. Мы должны помнить о нашей удаче в этой стране, осознавать наши возможности для хорошей жизни, принимать на себя ответственность за то, чтобы сделать хорошую жизнь еще лучше без граждан первого или второго сорта.В американском обществе не должно быть изгоев.
А что такое свобода, что такое свобода? Это состояние и состояние, которые позволяют каждому человеку полностью развить свои индивидуальные способности, беспрепятственно мыслить своими собственными мыслями, беспрепятственно взращивать свои идеалы и мечтать с радостью.
В наши дни мы слышим много «граждан второго сорта» не только в тоталитарном мире, но и в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы даем этой фразе слишком узкое определение.Мы применяем его исключительно к тем несчастным людям, которые лишены прав и преимуществ, которыми все мы так комфортно и небрежно пользуются; право голоса, право на образование, право стремиться к высшим позициям в промышленности, профессии, правительстве и нашей общей культуре, и все это независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи.
Эти изгои — нет более точного слова, чтобы их описать — остаются «гражданами второго класса» не по своему выбору или предпочтению, а потому, что им отказано в возможности стать первоклассными.
Вы, как американцы, обладаете той редкой привилегией, которой люди, живущие в тоталитарных государствах, не осмеливаются воспользоваться — я имею в виду драгоценное право отличаться, протестовать против несправедливости и несправедливости перед лицом народного шума, поднять свой голоса, даже если вы составляете меньшинство, и даже рискуете быть отвергнутыми и подвергнуться жестокому обращению за свои убеждения.
И к этому заявлению я мог бы добавить, что сила нашей страны определяется не столько ее материальным богатством, сколько качеством ее граждан.Каждый из вас как личность должен внести свой собственный вклад, каким бы скромным он ни был, чтобы поддерживать это высокое качество. Это ваша ответственность; это должно быть вашим стремлением и самым заветным желанием.
Что такое свобода? : Искусство несоответствия
Жизнь
Для меня все началось с понятия свободы — способности определять свой распорядок дня и общее направление жизни.
Меня очень мотивировала возможность решить для себя.Нормальная работа не подходила под эти параметры, поэтому я делал все, что мог, чтобы создать себе работу и благополучие.
Но это было рано.
Свобода по-прежнему очень важна для меня. Я откажусь от любой коммерческой сделки или выбора карьеры, которые ограничивают мой выбор или ограничивают будущие решения таким образом, который мне кажется неправильным.
Но что изменилось, так это определение свободы. С самого начала я узнал, что я не просто хотел свободы ради свободы — я хотел, чтобы что-то с этим сделала, .Я хотел создавать вещи, бросать себе вызов и ценить рост и обучение.
Из работы, которую я проделал за последние несколько лет, я понял, что не одинок в этом стремлении к творческой независимости. Больше всего на свете большинство людей, которых привлекают идеи этого блога, хотят собственной свободы. Они хотят иметь возможность делать свой собственный выбор и определять, как они проживают свою жизнь. Во многих случаях они предпочитают ценить эту свободу больше, чем деньги, материальное имущество или даже предполагаемую безопасность традиционной карьеры.
Стремление к свободе — вот что уводит кого-то из комфортной жизни в неопределенную, но гораздо более полноценную. Но существует ли слишком много свободы?
Если вы раньше не знали свободы, это захватывающее открытие. Вы просыпаетесь и блуждаетесь днем без обязательств и ожиданий. Вы можете выбрать свое собственное приключение, а если вам не нравится утреннее приключение, вы можете выбрать другое днем.
Однако через некоторое время эта свобода сама по себе может казаться удушающей.Целый день открыт для тебя … и тебе скучно.
Это как есть торт. Один кусок торта — это хорошо, но съесть весь торт сразу или заказать его каждое утро? Нет, спасибо.
Я думаю, что большинство из нас хочет свободы творить, делать что-то значимое. Свобода, которой мы достигаем, позволяет нам переходить на более высокие планы миссии и цели.
Итак, если вы пытаетесь создать для себя больше свободы, я думаю, будет хорошо спросить… что произойдет, когда вы ее получите? Что будет дальше?
Для меня, когда у меня только время, я нервничаю.Я хочу свободы с целью, проектом, видением, к которому нужно стремиться.
Свобода — это возможность выбирать свое будущее, но выбирать мы должны.
Как вы думаете, что для вас означает свобода?
Не стесняйтесь делиться своим ответом в комментариях.
###
* Мы ищем отличные истории для продолжения «Стартапа за 100 долларов». Следующая книга будет посвящена квестам и большим приключениям. Вы можете помочь?
Изображение: Tal Bright
Теги: творчество, свобода, смысл, несоответствие
Подпишитесь сейчас, и вы будете получать лучшие сообщения всех времен.
Для чего нужна свобода? Автор: Лесли Грин :: SSRN
38 стр. Размещено: 25 декабря 2012 г. Последняя редакция: 26 декабря 2012 г.
Дата написания: 25 декабря 2012 г.
Аннотация
Популярны две концепции ценности политической свободы.Согласно одному из них, свобода служит автономии, прокладывая собственный жизненный путь. Согласно другому, свобода служит подлинности, сохраняя веру с идентичностью, которую он не выбирал. Эта статья устраняет разрыв между этими взглядами несколькими способами. Это показывает, что автономия охватывает некоторые неизбранные аспекты жизни, которые подчеркивает аутентичность, и что аутентичность согласуется с возможностями выбора в рамках неизбранной идентичности. Это также показывает, что обе точки зрения разделяют ставку на игнорируемую ценность — самопознание.Сторонники аутентичности не могут сохранить веру в свою идентичность, если они не знают, что это такое на самом деле. Сторонники автономии не могут выбрать жизненный путь, не зная, какие у них есть варианты, и на эти варианты может инструментально и конститутивно влиять их личность, которую они поэтому заинтересованы в знании. Конечно, в пользу свободы может быть не один веский аргумент. Но вопреки тому, что многие предполагают, автономия и аутентичность дополняют, а не конкурируют в обосновании этого аргумента.Различия между ними — дело нюансов и степени.
Ключевые слова: свобода, выбор, автономия, подлинность, идентичность, Джозеф Раз, Чарльз Тейлор, Энтони Аппиа, Аласдер Макинтайр, Майкл Сэндел, политическая философия, моральная философия
Рекомендуемое цитирование: Предлагаемая ссылка
Свобода слова (Стэнфордская энциклопедия философии)
Тема свободы слова — один из самых спорных вопросов в либеральные общества.Если свобода выражения мнения не ценится высоко, поскольку часто бывало, проблем нет; свобода выражения мнения просто свернули в пользу других ценностей. Это становится нестабильной проблемой когда это высоко ценится, потому что только тогда накладываются ограничения по этому поводу стали спорными. Первое, что нужно отметить в любом толковом обсуждение свободы слова состоит в том, что ее придется ограничивать. Каждое общество накладывает определенные ограничения на использование речи, потому что это всегда происходит в контексте конкурирующих ценностей.В этом смысле, Стэнли Фиш прав, когда говорит, что таких вещь как свобода слова (в смысле неограниченного слова). Свободная речь просто полезный термин, чтобы сосредоточить наше внимание на конкретной форме человеческое взаимодействие, и фраза не предполагает, что речь никогда не следует ограничивать. Не обязательно полностью соглашаться с Fish когда он говорит: «Короче говоря, свобода слова не является независимым ценность, но политическая награда »(1994, 102), но это тот случай, когда не существовало общества, в котором речь не ограничивалась бы некоторыми степень.Хаворт (1998) делает то же самое, когда предполагает, что право на свободу слова — это не то, что у нас есть, не то, что мы владеть так же, как мы обладаем руками и ногами.
Александер и Хортон (1984) согласны. Они отмечают, что «речь» включает в себя множество различных видов деятельности: говорение, письмо, пение, актерское мастерство, горящие флаги, крики на углу улицы, реклама, угрозы, клевета и тд. Одна из причин думать, что речь не специальный simpiciter заключается в том, что некоторые из этих форм общение важнее других и, следовательно, требует разные уровни защиты.Например, свобода критиковать правительство обычно считается более важным, чем свобода художника оскорблять свою аудиторию. Если два речевых акта сталкиваются (когда крик мешает политической речи) необходимо принять решение отдавать предпочтение одному над другим, а это значит, что не может быть неограниченное право на свободу слова. Например, Александр и Хортон (1984) утверждают, что аргументы в защиту речи на демократических основаниях иметь много частей. Один из них — утверждение, что публике нужно много информация для принятия обоснованных решений.Другое дело, что поскольку правительство является слугой народа, это не должно быть разрешено подвергать их цензуре. Такие аргументы показывают, что одна из основных причины для оправдания свободы слова (политического выступления) важны, не ради самого себя, а потому, что это позволяет нам упражняться в другом важная ценность (демократия). Какие бы причины мы ни предлагали для защиты Speech также может использоваться, чтобы показать, почему некоторая речь не является особенной. Если речь защищается, потому что она способствует автономии, у нас больше нет основания для защиты речевых действий, подрывающих эту ценность.Если наш защита речи состоит в том, что это имеет решающее значение для правильного функционирования демократии, у нас нет причин защищать слова, не имеющие отношения к или подрывает эту цель. И если мы согласны с Джоном Стюартом Миллем (1978) эту речь следует защищать, потому что она ведет к истине, там похоже, нет причин защищать выступления противников вакцеров или креационистов.
Речь важна, потому что мы находимся в социальном положении, и это заставляет не имеет смысла говорить, что Робинзон Крузо имеет право на свободу слова.Становится необходимым говорить о таком праве только в рамках общественной установление и апеллирует к абстрактному и абсолютному праву на свободу слова скорее мешают, чем помогают дебатам. Как минимум, речь должна будет быть быть ограниченным ради порядка. Если мы все заговорим сразу, мы закончим с некогерентным шумом. Без некоторых правил и процедур мы не можем разговаривать вообще, и, следовательно, речь должна быть ограничена протоколами элементарной вежливости.
Это правда, что во многих документах по правам человека видное место отводится право на свободу слова и совести, но такие документы также ставят ограничения на то, что можно сказать из-за вреда и оскорбления, которые неограниченная речь может вызвать, (я расскажу об этом подробнее потом).За пределами Соединенных Штатов Америки речь не идет иметь особо охраняемый статус и конкурировать с другими права претендуют на нашу верность. Джон Стюарт Милль, один из великих защитники свободы слова, суммировали эти моменты в On Свобода , где он предполагает, что борьба всегда имеет место между конкурирующими требованиями власти и свободы. Он утверждал что у нас не может быть второго без первого:
Все, что делает существование ценным для кого-либо, зависит от наложение ограничений на действия других людей.Некоторые правила поведения, следовательно, должно быть наложено — законом в первом места, и мнениями по многим вещам, которые не подходят темами для действие закона. (1978, 5)
Таким образом, задача не состоит в том, чтобы отстаивать неограниченное количество бесплатных речь; такую концепцию невозможно защитить. Вместо этого нам нужно решить насколько мы ценим речь по сравнению с другими важными такие идеалы, как конфиденциальность, безопасность, демократическое равенство и предотвращение вреда, и в речи нет ничего, что предполагает, что он всегда должен побеждать в соревновании с этими ценностями.Речь является частью пакета социальных благ: «речь в Короче говоря, никогда не является ценностью сама по себе, но всегда производится внутри территории какой-то предполагаемой концепции блага »(Fish, 1994, 104). В этом эссе я исследую некоторые концепции хорошего которые считаются допустимыми ограничениями речи. я начну с принципом вреда, а затем перейти к другим, более всеобъемлющим аргументы в пользу ограничения выступления.
Однако прежде чем мы это сделаем, читатель, возможно, пожелает не согласиться с выше претензий и предупредить об опасности «скользкого» склон.»Как показал Фредерик Шауэр (1985), скользкая аргументы наклона утверждают, что текущее приемлемое изменение (он называет это настоящим делом) к статус-кво в отношении речи будет привести к некоторому невыносимому положению дел в будущем (то, что он называет опасный случай) после введения в действие настоящего дела о запрете выступления. Предполагается, что данное дело приемлемо; иначе это подвергнется критике сама по себе. Жалоба в том, что изменение от статус-кво до настоящего дела приведет к нежелательному будущему ограничений на речь, и этого следует избегать (даже если изменение моментальное дело было бы сразу желательно).Скользкая дорожка аргумент должен проводить четкое различие между моментом и моментом Опасный случай. Если первое было частью второго, то это не аргумент о скользкой дорожке, а просто утверждение о необоснованности широта настоящего дела. Утверждается, что изменение на приемлемое мгновенное дело, которое отличается от дела об опасности тем не менее должны быть запрещены, потому что изменение статус-кво к настоящему делу обязательно перенесет нас в опасный случай.
По словам Шуера, это не очень убедительно, потому что необходимо продемонстрировал, а не просто заявил, что переход от статуса quo с гораздо большей вероятностью приведет к опасному случаю. Часть проблема в том, что аргументы о скользкой дорожке часто представлены в виде это говорит о том, что мы можем быть как на склоне, так и вне его. На самом деле такого выбора нет существует: мы обязательно на склоне нравится нам это или нет, и задача всегда состоит в том, чтобы решить, насколько далеко вверх или вниз мы выберем идти, а не должны ли мы вообще сойти со склона.Нам нужно имейте в виду, что утверждение о скользкой дорожке — это не то, что настоящее дело приведет к незначительным изменениям в будущем, но это небольшие изменения сейчас будут иметь радикальные и тиранические последствия. В аргумент о скользкой дорожке, кажется, предполагает, что данное дело так ошибочен в том, что любое изменение в нем от статус-кво (что, опять же, положение уже на склоне) ставит нас перед неминуемой угрозой скольжения в случае опасности. К сожалению, причинные механизмы того, как это должно происходить обязательно обычно не указано.Кто угодно делая такие заявления, вы должны быть готовы продемонстрировать, насколько это маловероятно событие произойдет до того, как к нему будут относиться всерьез. Такого человека нет просто отстаивая осторожность; она утверждает, что надвигается неминуемое риск перехода от приемлемого мгновенного дела к неприемлемому Опасный случай. Это не означает, что проскальзывания быть не может. Один защита от этого должна быть как можно более точной при использовании нами язык. Если вред другим является нашей предпочтительной точкой остановки на наклон, нам нужно четко указать, что считается вредом, а что не.Иногда мы не справляемся с этой задачей, но точность ставит тормозит настоящее дело и ограничивает его способность к скольжению вниз наклон.
Те, кто поддерживает аргумент о скользкой дорожке, склонны утверждать, что что неизбежным следствием ограничения речи является сползание в цензура и произвол. Однако стоит отметить, что скользкая аргумент slope может использоваться, чтобы сделать противоположную точку зрения; можно было поспорить что мы не должны допускать отмены государственного вмешательства (на слова или любой другой свободы), потому что, как только мы это сделаем, мы окажемся на скользкий путь к анархии, естественному состоянию и жизни, которую Гоббс описан в Leviathan как «одинокий, бедный, мерзкий, грубые и короткие »(1968, 186).
Возможно, что некоторые ограничения на речь могут со временем привести к дальнейшим ограничения — но могут и не быть. И если они это сделают, те ограничения также могут быть оправданы. Суть в том, что как только мы отказаться от бессвязной позиции, что не должно быть никаких ограничений речи, мы должны принять неоднозначные решения о том, что можно и невозможно выразить; это идет вместе с территорией проживания вместе в сообществах.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, прежде чем мы перейдем к конкретным аргументам в пользу ограничение слова состоит в том, что мы на самом деле свободны говорить, как хотим.Таким образом, свобода слова отличается от некоторых других видов свободы действий. Если правительство хочет помешать гражданам участвовать в определенных действия, например, катание на мотоциклах, это может ограничить их свободу сделайте это, убедившись, что такие транспортные средства больше не доступны; текущие велосипеды могут быть уничтожены, и на будущее может быть наложен запрет импорт. Другое дело — свобода слова. Правительство может ограничить некоторые формы свободы слова путем запрета книг, пьес, фильмов и т. д., но он не может сделать невозможным сказать определенные вещи.Единственное, что это Что можно сделать, это наказать людей после того, как они высказались. Это означает что мы можем говорить так, что мы не можем ездить запрещенные мотоциклы. Это важный момент; если мы настаиваем на этом юридические запреты удаляют свободу , тогда мы должны придерживаться бессвязная позиция о том, что человек несвободен именно в тот момент, когда она исполнил речевой акт. Правительству придется удалить наш голос шнуры для нас, чтобы быть несвободными, как мотоциклист несвободный.
Более убедительный анализ предполагает, что угроза санкций делает более трудным и потенциально более дорогостоящим использование наших Свобода слова. Такие санкции принимают две основные формы. Первый и Наиболее серьезным из них является правовое наказание со стороны государства, которое обычно состоит из денежного штрафа, но может растянуться до тюремного заключения (что, в свою очередь, конечно, еще больше ограничивает свободу слова лиц). Секунда угроза санкций исходит из социального неодобрения. Люди часто воздерживаются от публичных заявлений, потому что боятся насмешек и моральное возмущение других.Например, можно было ожидать, что публично осужден, если кто-то сделал расистские комментарии во время публичной лекции в университете. Обычно это первый вид санкций, который улавливает наше внимание, но, как мы увидим, Джон Стюарт Милль дает сильную предупреждение о сдерживающем эффекте последней формы социального контроль.
Похоже, мы пришли к парадоксальной позиции. Я начал с утверждения что не может быть такой вещи, как чистая форма свободы слова: теперь я кажется, мы утверждаем, что на самом деле мы вправе говорить все, что захотим.Парадокс разрешается, если думать о свободе слова следующим образом. термины. Я действительно могу сказать (но не обязательно публиковать), что Мне нравится, но государство и другие люди иногда могут свобода, более или менее дорогостоящая для осуществления. Это приводит к выводу что мы можем пытаться регулировать речь, но не можем предотвратить это, если человека не пугает угроза наказания. Проблема, следовательно, сводится к оценке того, насколько громоздким мы хотим сделать это для людей говорить определенные вещи.Я уже предположил, что все общества (правильно) сделать одни речи более дорогими, чем другие. Если читатель сомневается в этом, возможно, стоит подумать о том, на что будет похожа жизнь без санкций за клеветнические высказывания, детскую порнографию, рекламный контент и разглашение государственной тайны. Список может пойти на.
Напрашивается вывод, что проблема, с которой мы сталкиваемся, решает где, а не нужно ли ставить ограничения на речь, и следующие разделы посмотрите на некоторые возможные решения этой загадки.
2.1 Принцип вреда Джона Стюарта Милля
Учитывая, что Милл представил один из первых и, пожалуй, самый знаменитая либеральная защита свободы слова, я остановлюсь на его аргументах в этом эссе и используйте их как трамплин для более общего обсуждение свободы слова. В сноске в начале Глава II О свободе Милль делает очень смелое заявление:
Если аргументы настоящей главы имеют какое-либо обоснование, то здесь должна существовать самая полная свобода исповедовать и обсуждать, как вопрос этических убеждений, любая доктрина, какой бы аморальной она ни была считается.(1978, 15)
Это очень сильная защита свободы слова; Милль говорит нам, что любая доктрина должна быть допущена в свет независимо от того, , каким безнравственным может показаться всем остальным. И Милл действительно означает все:
Если бы все человечество за вычетом одного придерживалось одного мнения, и только один человек были противоположного мнения, человечество не будет более оправдано в заставить замолчать того одного человека, чем он, если бы у него была сила, было бы оправдано в том, чтобы заставить человечество замолчать. (1978, 16)
Такая свобода должна существовать с каждым предметом, чтобы мы «Абсолютная свобода мнений и чувств по всем вопросам, практический или умозрительный, научный, моральный или теологический » (1978, 11).Милль утверждает, что полная свобода выражения мнений требуется, чтобы довести наши аргументы до их логических пределов, а не пределы социального затруднения. Такая свобода самовыражения он предполагает, что это необходимо для достоинства людей. Если свобода выражение задушено, уплаченная цена — это «своего рода интеллектуальный умиротворение », приносящее в жертву« все моральное мужество человека. разум »(1978, 31).
Это веские претензии к свободе слова, но, как я отмечал выше, Милль также предполагает, что нам нужны некоторые правила поведения, чтобы регулировать действия членов политического сообщества.Ограничение, которое он налагает о свободе выражения мнений — это «один очень простой принцип» (1978, 9), который теперь обычно называют принципом вреда, который гласит: что
… Единственная цель, ради которой можно по праву осуществлять власть над любым член цивилизованного сообщества против своей воли должен предотвратить вред другим. (1978, 9)
О том, что имел в виду Милль, когда он сослался на вред; для целей этого эссе он будет отведен означают, что действие должно напрямую и в первую очередь вторгаться права человека (сам Милль использует термин права, несмотря на основывая аргументы в книге на принципе полезности).В ограничения на свободу слова будут очень узкими, потому что трудно поддержать утверждение, что большая часть высказываний причиняет вред правам другие. Это позиция, которую Милл занял в первых двух главы О свободе , и это хорошая отправная точка для обсуждение свободы слова, потому что трудно представить более либеральную позиция. Либералы обычно готовы обдумывать ограничение свободы слова. как только можно будет продемонстрировать, что он нарушает права другие.
Если мы принимаем аргумент Милля, нам нужно спросить, «какие типы речь, если таковая имеется, причинить вред? » Как только мы сможем ответить на этот вопрос, мы нашли соответствующие ограничения для свободы слова.Пример Милл использует в отношении торговцев кукурузой: он предполагает, что это приемлемо утверждать, что торговцы кукурузой морили бедных голодом, если такая точка зрения выражается в печати. Недопустимо делать такие заявления в адрес разъяренная толпа, готовая взорваться, собралась у дома торговец кукурузой. Разница между ними в том, что последний выражение «такое, чтобы составлять… положительный подстрекательство к злонамеренному действию »(1978, 53), а именно подвергают опасности права и, возможно, жизнь торговца кукурузой.Как отмечает Дэниел Якобсон (2000), важно помнить, что Милл не будет санкционировать ограничения свободы слова просто потому, что кто-то пострадал. Например, торговец кукурузой может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. трудности, если его обвиняют в том, что он морил голодом бедняков. Милл отличает между законным и незаконным вредом, и это только тогда, когда речь вызывает прямое и явное нарушение прав, которые могут быть ограничены. Тот факт, что Милль не считает обвинения в голодании бедных причинение незаконного ущерба правам торговцев кукурузой предполагает, что он пожелали умеренно применить принцип вреда.Другие примеры, когда может применяться принцип вреда, включая законы о клевете, шантаж, рекламу откровенная неправда о коммерческих продуктах, реклама опасна товары для детей (например, сигареты) и обеспечение правды в контракты. В большинстве этих случаев можно показать, что вред могут быть вызваны и что права могут быть нарушены.
2.2 Принцип вреда Милля и порнография
Бывают и другие случаи, когда применяется принцип вреда, но где сложнее продемонстрировать, что права были нарушено.Пожалуй, самый очевидный пример — это споры по поводу порнография. Как отмечает Файнберг в книге «Оскорбление других: мораль» Пределы Уголовного закона , большинство атак на порнографию до 1970-е были от социальных консерваторов, которые сочли такой материал аморально и непристойно. Этот тип аргументов утих в последнее время раз, и некоторые феминистки, которые часто делают различие между эротикой, что приемлемо, и порнография, которой нет, потому что она, как утверждается, унижает достоинство, вредит и ставит под угрозу жизнь женщин.Принцип вреда может быть используется против порнографии, если можно доказать, что она нарушает права женщин.
Это подход, принятый Кэтрин Маккиннон (1987). Она берет серьезно различие между порнографией и эротикой. Эротика может быть откровенным и вызывать сексуальное возбуждение, но это не является основанием для жалобы. Порнография не подверглась бы нападкам, если бы то же, что и эротика; жалоба в том, что он изображает женщин в манера, которая им вредит.
Когда порнография затрагивает маленьких детей, большинство людей признают, что это следует запретить, потому что это вредит лицам моложе возраста согласие (хотя принцип не обязательно исключает людей старше возраста согласия от изображения несовершеннолетних).Это доказало больше трудно сделать то же самое для взрослых по обоюдному согласию. это трудно узнать, если люди, которые появляются в книгах, журналах, фильмах, видео и в Интернете причиняют физический вред. Если они мы затем нужно показать, почему это достаточно отличается от других форм вредной занятости, которая не запрещена, например, жесткое руководство труд или очень опасная работа. Большая часть работы в порнографии кажется быть унизительным и неприятным, но то же самое можно сказать о многих формах работы, и снова непонятно, почему принцип вреда может быть использован для выделить порнографию.Маккиннон (1987) утверждает, что женщины, которые живущие через порнографию сексуальные рабы, кажется, преувеличивают кейс. Если условия в индустрии порнографии особенно плохи, более жесткое регулирование, чем запрет, может быть лучшим вариантом, тем более, что последнее не заставит отрасль уйти.
Также трудно доказать, что порнография причиняет вред. женщинам в целом. Очень немногие люди будут отрицать это насилие над женщины отвратительны и слишком распространены в нашем обществе, но насколько это вызвано порнографией? Маккиннон, Андреа Дворкин, (1981) и многие другие пытались показать причинно-следственную связь, но это оказалось сложной задачей, потому что нужно показать, что человек, который не будет насиловать, избивать или иным образом нарушать права женщин. это вызвано просмотром порнографии.Кэролайн Уэст дает полезный обзор литературы и предполагает, что даже хотя порнография может и не склонить большинство мужчин к изнасилованию, она может это скорее для тех мужчин, которые уже так склонны. Она использует аналогия с курением. У нас есть все основания утверждать, что курение вызывает рак более вероятен, даже если курение не является ни необходимым, ни достаточное условие для возникновения рака. Одна возможная проблема с эта аналогия заключается в том, что у нас есть очень веские доказательства того, что курение действительно значительно увеличивают вероятность рака; доказательство предполагая, что просмотр порнографии приводит мужчин (уже склонных) к изнасилование женщин не такое уж сильное.
Если бы порнографы призывали своих читателей к насилию и изнасилования, аргументы в пользу запрета были бы намного сильнее, но они, как правило, не делать этого, так же как фильмы, изображающие убийство, активно не побудить аудиторию имитировать то, что они видят на экране. Ради аргументации позволим предположить, что потребление порнографии действительно ведет некоторые мужчины совершают акты насилия. Такая уступка может не оказаться быть решительным. Принцип вреда может быть необходим, но это не так. достаточный повод для цензуры.Если порнография вызывает небольшой процент мужчин, которые прибегают к насилию, нам все еще нужен аргумент в пользу того, почему свобода всех потребителей порнографии (мужчин и женщин) должна быть сокращен из-за насильственных действий некоторых. У нас есть неопровержимые доказательства того, что употребление алкоголя вызывает много насилия (против женщин и мужчин), но это не означает, что алкоголь следует запрещенный. Мало кто приходит к такому выводу, несмотря на ясность доказательств. Прежде чем запретить, необходимо ответить на дополнительные вопросы. оправдано.Сколько людей пострадали? Какая частота вред? Насколько убедительно доказательство того, что A вызывает B? Бы запрет ограничить вред, и если да, то на сколько? Была бы цензура вызвать проблемы больше, чем вред, который он призван свести на нет? Может ли вредные последствия можно предотвратить с помощью иных мер, кроме запрета?
Есть и другие вредные воздействия нефизического характера, которые также необходимо учитывать. рассмотрение. Маккиннон утверждает, что порнография причиняет вред, потому что он эксплуатирует, угнетает, подчиняет и подрывает гражданские права женщин, включая их право на свободу слова.Разрешительная политика в отношении порнография ставит во главу угла право на свободу слова порнографы по поводу права женщин на слово. Заявление Маккиннона эта порнография заставляет женщин замолчать, потому что представляет их низшими существа и сексуальные объекты, которые не следует воспринимать всерьез. Даже если порнография не вызывает насилия, она по-прежнему ведет к дискриминации, доминирование и нарушение прав. Она также предлагает это, потому что порнография предлагает вводящий в заблуждение и уничижительный взгляд на женщин, это клеветнический.Вместе с Андреа Дворкин Маккиннон подготовил проект Миннеаполиса. Постановление Совета от 1983 года, разрешающее женщинам подавать гражданские иски. против порнографов. Они определили порнографию как:
… Наглядное сексуально откровенное подчинение женщин через изображения или слова, которые также включают женщин, дегуманизированных как сексуальные предметы, вещи или товары; наслаждаясь болью, унижением или изнасилованием; быть связанным, порезанным, искалеченным, ушибленным или физически раненным; в позы сексуального подчинения, подобострастия или демонстрации; сводится к телу части, пронизанные предметами или животными или представленные в сценариях унижение, травмы, пытки; показан как грязный или неполноценный; кровотечение синяк или травма в контексте, который делает эти условия сексуальный (1987, 176).
Подобные аргументы пока не привели к запрету порнографии. (что не было целью Постановления), и многие либералы остаются не убедил. Одна из причин, по которой некоторые сомневаются в утверждениях Маккиннона, заключается в том, что за последние двадцать лет произошел взрыв порнографии на Интернет без одновременного размывания прав женщин. Если те доказывая, что порнография причиняет вред, правильно, мы должны ожидать наблюдают значительный рост физического насилия в отношении женщин и значительный снижение их гражданских прав, занятость по профессиям и должности в высшем образовании.Доказательства, кажется, не показывают этого и социальные условия для женщин сегодня лучше, чем 30 лет назад когда порнография была менее распространена. Что кажется разумным ясно, по крайней мере, в США, что повышенное потребление порнография за последние 20 лет совпала с сокращением насильственные преступления против женщин, включая изнасилование. Если мы вернемся к Уэсту аналогии с курением, нам придется переосмыслить нашу точку зрения о том, что курение вызывает рака, если значительное увеличение числа курильщиков не привело к сопоставимое увеличение заболеваемости раком легких.
Вопрос остается неурегулированным, и жизнь женщин может быть нарушена. значительно лучше, если бы порнографии не было, но пока Доказано, что трудно оправдать ограничение порнографии вредом принцип. Важно помнить, что в настоящее время мы изучаем этот вопрос с точки зрения формулировки Милля вреда принцип и единственная речь, что прямо нарушает права должен быть забанен. Находят порнографию оскорбительной, непристойной или возмутительной не является достаточным основанием для цензуры.Принцип Милля не разрешить запрет, потому что порнография вредит зрителю. Вред Принцип существует для предотвращения вреда, причиняемого другим, но не себя.
В целом, никто не представил убедительных доводов (по крайней мере, в том, что касается законодатели и судьи обеспокоены) для запрета порнографии (кроме в случае несовершеннолетних) на основе концепции вреда, сформулированной Милл.
2.3 Принцип вреда Милля и язык вражды
Еще один сложный случай — язык вражды. Большинство либеральных демократий имеют ограничения на разжигание ненависти, но вопрос о том, могут ли они быть оправдано принципом вреда, сформулированным Миллем.Можно было бы показать, что такая речь нарушает права, прямо и в первую очередь пример. Меня интересуют разжигания ненависти, не пропагандирующие насилие против группы или отдельного человека, потому что такая речь была бы охвачены принципом вреда Милля. Закон об общественном порядке 1986 г. Великобритания не требует такого строгого барьера, как принцип вреда. запретить речь. В законе говорится, что «лицо виновно в правонарушение, если он … показывает какие-либо надписи, знаки или другие видимые представление, которое является угрожающим, оскорбительным или оскорбительным, в пределах слышать или видеть человека, который может стать причиной преследования, тревоги или горе.”
В Великобритании было несколько судебных преследований, которые не были произойдет, если принцип ущерба регулирует «абсолютно все сделки общества с индивидом »(Милл, 1978, 68). В 2001 евангелист Гарри Хаммонд был привлечен к ответственности за следующие заявления: «Иисус дает мир, Иисус жив, прекратите безнравственность, стой Гомосексуализм, прекратите лесбиянство, Иисус — Господь ». За свои грехи он был оштрафован на 300 фунтов стерлингов и понесен в размере 395 фунтов стерлингов. В 2010, Гарри Тейлор оставил антирелигиозные карикатуры в молитвенной комнате Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона.Капеллан аэропорта был «Оскорблен, оскорблен и встревожен» мультфильмами и позвонил в полицию. Тейлор был привлечен к уголовной ответственности и получил шестимесячный срок. условный приговор. Барри Тью надел футболку через несколько часов после двух женщин сотрудники полиции были убиты недалеко от Манчестера в 2012 году. на рубашке был слоган «На одну свинью меньше, совершенное правосудие», а на обороте было написано «Убить копа ради забавы». Он признал нарушение общественного порядка в соответствии с разделом 4A и был приговорен к четырем месяцев тюрьмы. Также в 2012 году Лиам Стейси отправился в твиттер, чтобы издеваться над черным профессиональный футболист, потерявший сознание во время матча.Затем он продолжал подвергать расовому насилию людей, которые отрицательно отреагировали на его чирикать. Он был приговорен к 56 суткам лишения свободы. Этот случай спровоцировал значительный комментарий, по большей части имеющий форму скользкого уклона утверждает, что это решение неизбежно приведет к тому, что Великобритания станет тоталитарное государство. Самое последнее (июнь 2016 г.) дело, получившее публичную внимание привлекает Поль Гаскойн, бывшая звезда английского футбола, которому было предъявлено обвинение в злоупотреблении на расовой почве после комментария, находясь на сцене, он мог различить только чернокожего мужчину, стоящего в темный угол комнаты, когда он улыбнулся.Сомнительно, чтобы кто-то из эти примеры можно было бы уловить с помощью принципа вреда Милля.
В Австралии в разделе 18C Закона 1975 года о расовой дискриминации говорится: что «лицо совершает действие незаконно, за исключением в частном порядке, Если: (а) действие разумно вероятно во всех обстоятельства оскорбить, оскорбить, унизить или запугать другого человек или группа людей, и (б) действие совершено по расовой принадлежности, цвет кожи, национальность или этническое происхождение ». Самый выдающийся человек преследуется по закону Эндрю Болт, консервативный политический деятель. комментатора, который был признан виновным в оскорблении на расовой почве девяти аборигены в газетных статьях в 2011 году.Он предположил, что девять человек определились как аборигены, несмотря на то, что кожи, для их собственного профессионального преимущества. Случай побудил Тони Эбботт привел либеральное правительство к неудачной попытке изменить законодательство.
Следует отметить, что Раздел 18C квалифицируется Разделом 18D (часто проигнорирован в ответной реакции на решение Bolt). 18D говорит, что
… В разделе 18C не говорится о том, что сказано или сделано незаконным разумно и добросовестно: (а) в представлении, выставке или распространение художественного произведения; или (б) в ходе любого заявление, публикация, обсуждение или дебаты, сделанные или проведенные для любого подлинные академические, художественные или научные цели или любые другие подлинные цель в общественных интересах; или (c) при изготовлении или публикации: (i) справедливый и точный отчет о любом событии или публичном вопросе интерес; или (ii) справедливый комментарий по любому вопросу, представляющему общественный интерес, если комментарий является выражением искреннего убеждения, которого придерживается человек оставляя комментарий…
Понятно, что эти квалификации удаляют часть зубов из Раздел 18C.Если заявления сделаны художественно и / или в добросовестность, например, они не подвергаются судебному преследованию. В Заключение судьи по делу Болта заключалось в том, что ни одна из Секций В его случае применялись исключения 18D. Даже с такой квалификацией в место, однако, кажется, что Закон о расовой дискриминации все еще исключается принципом вреда Милля, который, кажется, позволяет людей оскорблять, оскорблять и унижать (хотя, возможно, и не запугать) независимо от мотивации говорящего.
Соединенные Штаты, именно потому, что они наиболее точно соответствуют теории Милля. принцип, является исключением среди либеральных демократий, когда дело доходит до язык вражды. Самый известный пример этого — нацистский марш Скоки, штат Иллинойс, то, что было бы запрещено во многих других либеральные демократии. Намерение состояло не в том, чтобы участвовать в политической речь вообще, а просто маршировать через преимущественно еврейский община, одетая в форму штурмовика и со свастикой (хотя Верховный суд Иллинойса истолковал ношение свастики как «символическая политическая речь»).Ясно что многие люди, особенно те, кто жил в Скоки, были возмущены и обиделись на марш, но пострадали ли они? Плана не было причинить телесные повреждения, и участники марша не намеревались причинить вред имущество.
Главный аргумент в пользу запрета марша Скоки, основанный на соображения вреда заключалось в том, что марш спровоцирует бунт, таким образом подвергая марша опасности опасности. Проблема с этим аргументом в том, что фокус — это потенциальный вред для динамиков, а не вред сделано по отношению к тем, кого ненавидят.Запретить выступление за это разум, то есть во благо говорящего, имеет тенденцию подрывать основное право на свободу слова в первую очередь. Если мы превратим наши внимание к членам местного сообщества, мы могли бы потребовать что марш нанес им психологический ущерб. Это намного больше Сложно продемонстрировать, чем причинить вред законным правам человека. Это поэтому кажется, что аргумент Милля не допускает вмешательство в этом случае. Если мы будем основывать нашу защиту речи на словах Милля Принципиально у нас будет очень мало запретов.Только когда мы сможем показать прямой вред правам, что почти всегда будет означать, когда Нападение совершается на конкретного человека или небольшую группу лиц, что наложение санкции правомерно.
Один из ответов состоит в том, чтобы предположить, что принцип вреда может быть определен меньше. строго. Джереми Уолдрон (2012) недавно предпринял попытку сделать это. Он обращает наше внимание на визуальное воздействие языка вражды. через плакаты и вывески, размещенные в общественных местах. Уолдрон утверждает, что Вред в языке ненависти (название его книги) заключается в том, что он ставит под угрозу достоинство атакованных.Общество, в котором такие образы размножаются чрезвычайно усложняет жизнь тем, кто подвергается разжиганию ненависти. Уолдрон предполагает, что люди, практикующие язык вражды, говорят: «[T] пришло время для вашей деградации и вашего исключения со стороны общества быстро приближается »(2012, 96). Он утверждает, что запрещение таких сообщений гарантирует всем людям, что они приветствую членов сообщества.
Уолдрон не хочет использовать закон о разжигании ненависти для наказания тех, кто кто придерживается ненавистных мыслей и настроений.Цель не в том, чтобы заниматься контроль мысли, но для предотвращения вреда социальному положению определенных группы в обществе. Либерально-демократические общества основаны на идеях равенства и достоинства, и им наносят ущерб язык вражды. Данный Уолдрон задается вопросом, зачем нам вообще обсуждать полезность язык вражды. Милль, например, утверждал, что мы должны разрешить речь этого типа, чтобы наши идеи не впали в «дремоту решительное мнение »(1978, 41). Уолдрон сомневается, что нам нужна ненависть речь, чтобы предотвратить такой исход.
Как мы видели, Уолдрон приводит аргумент, основанный на причинении вреда, но его порог того, что считается вредом, ниже, чем у Милля. Ему нужно убедить нас, что посягательство на достоинство человека является значительный вред. Коллеги могут задеть мое достоинство, потому что пример, но это не обязательно показывает, что мне был причинен вред. Возможно, это только тогда, когда посягательство на достоинство приравнивается к угрозам. о физическом насилии, которое считается причиной ограничения свободы слова. Уолдрон не приводит много доказательств того, что снисходительное отношение к язык вражды, по крайней мере в либеральных демократиях, действительно вызывает значительные вред.В США нет специального регулирования языка вражды. Штаты, например, но не ясно, что там больше вреда чем в других либеральных демократиях.
Дэвид Бунин (2011) не убежден в необходимости специальных Законодательство о разжигании ненависти. Он утверждает, что язык вражды не подходит в рамках обычных категорий высказываний, которые могут быть запрещены. Даже если его можно убедить, что это подходит, он все равно будет ненавидеть законы о речи не требуются, потому что существующее законодательство будет фиксировать оскорбительная речь.Я исследую один пример, который он использует, чтобы точка. Бунин утверждает, что угрожающие высказывания уже находятся в категория высказываний, которые законно запрещены. Он предлагает, однако этот язык ненависти не попадает в эту категорию, потому что значительное количество разжигающих ненависть высказываний прямо не угрожает. Группа чернокожих мужчин, например, не будет угрожать расовое оскорбительная пожилая белая женщина. Он утверждает, что этот пример и другие нравится, покажите, почему полный запрет на любые высказывания, разжигающие ненависть, на том основании, что это угроза не может быть оправдана.
По его мнению, также маловероятно, что расистские нападки со стороны хрупких старушек поспособствует созданию атмосферы опасности. Этот аргумент может быть менее убедительно. Использование Mill на примере продавца кукурузы демонстрирует как использование языка может подстрекать к насилию независимо от того, кто Говорящий. Но пример Милля также показывает, что общий запрет по-прежнему неоправданны, поскольку позволяют сделано около торговцев кукурузой в контролируемых условиях.
Аргумент Бунина здесь не исчерпывается.Если действительно окажется в том случае, если все разжигающие ненависть высказывания угрожают в соответствующих смысл, это все еще не оправдывает специальных законов о разжигании ненависти, потому что уже существует законодательство, запрещающее угрозы язык. Бунин выступает против запрета разжигания ненависти, потому что это ненавистно не потому, что это угрожает. Он утверждает, что аргумент в пользу специальные законы о разжигании ненависти «насажены на рога дилеммы: либо призыв неубедителен, потому что не все формы языка вражды угрожают, или в этом нет необходимости именно потому, что все формы ненавистнические высказывания угрожают и поэтому уже запрещены » (2011, 213).Бунин использует ту же стратегию в отношении других причины, такие как «боевые слова», для запрета языка вражды; все они оказываются на коленях перед одной и той же дилеммой.
Аргументы Уолдрона и Бунина кажутся очень далекими друг от друга и последнее предполагает, что любой, кто выступает за законы о разжигании ненависти, занимая крайнюю позицию. Однако есть много совпадений между ними двумя, особенно потому, что оба сосредоточены на вреде, и ни один не хочет подвергать цензуре ненавистнические высказывания просто потому, что они оскорбительны.Это становится Более ясным, если мы примем предложение, предложенное Уолдроном. В какой-то момент в свою книгу он размышляет, может ли быть выгодно отказаться от термин «язык вражды» вообще. Такой шаг имеет большое значение для согласование аргументов Уолдрона и Бунина. Оба автора согласны этот запрет приемлем, когда речь идет о угрозах; Oни не согласны с тем, что считается опасной угрозой. Уолдрон думает о большинстве форм о расовом насилии квалифицируются, тогда как Бунин более осмотрителен. Но разногласия между ними касаются того, что причиняет вред, а не каких-либо главное философское различие о соответствующих ограничениях на речь.Если оба согласны с тем, что угроза представляет собой значительный ущерб, то оба поддержит цензуру. Это по-прежнему оставляет много места для разногласий, особенно с учетом того, что теперь мы знаем больше, чем Милль из психологический, а также физический вред. Я не могу вникать в тему здесь, за исключением того, что если мы расширим принцип вреда от от физического к ментальному, могут стать доступными больше возможностей для запрещение языка вражды и порнографии.
2.4 Меры в ответ на принцип вреда
Есть два основных ответа на принцип вреда.Во-первых, это слишком узкий; во-вторых, он слишком широкий. Это последнее мнение не часто выражается, потому что, как уже отмечалось, большинство людей думают, что бесплатные слова должны быть ограничены, если они причиняют неправомерный вред. Джордж Катеб (1996), однако, выдвинул интересный аргумент, который звучит так: следует. Если мы хотим ограничить речь, потому что она причиняет вред, мы будем надо запретить много политических выступлений. Большая часть бесполезна, много это оскорбительно, и некоторые из них причиняют вред, потому что они лживы и направлен на дискредитацию определенных групп.Это также подрывает демократическое гражданство и разжигает национализм и ура-патриотизм, которые наносит вред гражданам других стран. Даже хуже чем политическая речь, по словам Катеба, является религиозной речью. Он утверждает что многие религиозные высказывания ненавистны, бесполезны, нечестны и разжигает войну, фанатизм и фундаментализм. Это также создает плохие самооценка и чувство вины, которые могут преследовать людей во всем их жизни. Он утверждает, что порнография и язык вражды ни к чему не приводят почти столько же вреда, сколько политические и религиозные высказывания.Как мы правильно делаем Катеб утверждает, что не хочет запрещать политические и религиозные высказывания. продемонстрировал, что принцип вреда слишком далеко забрасывает сеть. Его решение — отказаться от принципа в пользу почти неограниченного речь.
Это веский аргумент, но, похоже, есть как минимум два проблемы. Во-первых, принцип вреда действительно позволяет религиозная и политическая речь по тем же причинам, по которым она позволяет большая часть порнографии и языка вражды, а именно то, что невозможно продемонстрировать, что такая речь действительно наносит прямой вред правам.Я сомневаюсь что Милль поддержит использование его аргументов о вреде для запрета политическая и религиозная речь. Вторая проблема Катеба в том, что если он прав в том, что такая речь причиняет вред нарушением прав, теперь у нас есть веские причины для ограничения политических и религиозных речь. Если аргумент Катеба верен, он показал, что вреда больше. обширнее, чем мы могли подумать; он не продемонстрировал, что принцип вреда недействителен.
3.1 Принцип нарушения Джоэла Файнберга
Другой ответ на принцип вреда заключается в том, что он не распространяется далеко достаточно.Один из самых убедительных аргументов в пользу этой позиции — от Джоэла Файнберга, который предполагает, что принцип вреда не может взять на себя всю работу, необходимую для соблюдения принципа свободы слова. В В некоторых случаях, предлагает Файнберг, нам также нужно нарушение принцип , которым может руководствоваться общественное порицание. Основная идея заключается в том, что принцип вреда устанавливает слишком высокую планку, и что мы можем законно запретить некоторые формы выражения мнения, потому что они очень оскорбительны. Нарушение менее серьезно, чем нанесение вреда, поэтому любые наложенные санкции должны не будь суровым.Как отмечает Файнберг, так было не всегда. и он приводит ряд случаев в США, когда штрафы за «Оскорбительные» действия, такие как содомия и инцест по обоюдному согласию, варьируются от двадцать лет лишения свободы до смертной казни. Принцип Файнберга гласит следующее: «это всегда хороший повод в поддержку предложил уголовный запрет, который, вероятно, был бы эффективным способ предотвращения серьезного преступления … лицам, не являющимся актером, и что это, вероятно, необходимое средство для достижения этой цели…Принцип утверждает, что предотвращение оскорбительного поведения собственно дело государства »(1985, 1).
Такой принцип трудно применить, потому что многие люди обижаются, когда результат чрезмерно чувствительного характера или, что еще хуже, из-за фанатизм и неоправданные предрассудки. Еще одна трудность состоит в том, что некоторые люди могут быть глубоко оскорблены утверждениями, которые другие сочтут мягко занимательный. Фурор, вызванный датскими мультфильмами, привел к тому, что передняя. Несмотря на сложность применения такого стандарта, что-то вроде принципа преступления широко применяется в либеральных демократии, где граждане наказываются за различные действия, включая речь, которая избежала бы преследования за причиненный вред принцип.Бродить по местному торговому центру голым или увлекаться в сексуальных актах в общественных местах два очевидных примера. Учитывая специфику этого эссе, я не буду вдаваться в оскорбительное поведение во всех его проявлениях, и я ограничу обсуждение оскорбительных форм речи. Файнберг предполагает, что многие факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, может ли речь ограничиваться принципом правонарушения. К ним относятся степень, продолжительность и социальная ценность речи, легкость, с которой она может быть избежать, мотивы говорящего, количество обиженных, интенсивность преступления и общий интерес сообщество.
3.2 Порнография и принцип правонарушения
Как принцип оскорбления помогает нам решать проблему эротики? Учитывая вышеперечисленные критерии, Файнберг утверждает, что книги никогда не должны быть забанен, потому что оскорбительного материала легко избежать. Если один не осведомлены о содержании и должны обидеться в ходе читая текст, решение простое — закрыть книгу. Похожий Аргумент применим к эротическим фильмам. Французский фильм Baise-Moi был по сути запрещен в Австралии в 2002 году из-за предполагаемого оскорбительный материал (ему было отказано в оценке, что означало, что он мог не показывать в кинотеатрах).Однако может показаться, что преступление изложенный Файнбергом принцип не допускает такого запрета Потому что очень легко не обидеться на фильм. Должно также законно рекламировать фильм, но могут быть установлены некоторые ограничения о содержании рекламы, чтобы материалы сексуального характера не размещается на рекламных щитах в общественных местах (потому что они не легко избежать). На первый взгляд может показаться странным иметь более строгий речевой код для рекламы, чем для вещей рекламируется; принцип вреда не может служить основанием для такого различие, но это логическое завершение преступления принцип.
Что насчет порнографии, т. Е. Материалов, оскорбительных из-за того, что крайне жестокий или унижающий достоинство контент? В этом случае преступление более глубокий: просто знать, что такой материал существует, достаточно, чтобы глубоко обидеть многих людей. Трудность здесь в том голом знании, то есть обидеться, зная, что что-то существует или место, не так серьезно, как обидеться на то, что делаешь в отличие от и , от которых невозможно убежать. Если мы позволим этим фильмам следует запретить, потому что некоторые люди обижены, даже если они это делают не нужно их просматривать, последовательность требует, чтобы мы позволяли возможность запрета многих форм выражения мнений.Много людей найти сильные нападки на религию или телевидение шоу религиозных фундаменталисты глубоко оскорбительны. Файнберг утверждает, что хотя некоторые формы порнографии глубоко оскорбительны для многих людей, они не должны быть запрещены на этих основаниях.
3.3 Разжигание вражды и принцип оскорбления
Разжигание вражды вызывает глубокое оскорбление. Дискомфорт, причиненный цели таких атак не могут быть легко сброшены со счетов. Как и в случае с насильственным порнография, преступление, совершенное маршем через Скоки. нельзя избежать, просто держась подальше от улиц, потому что преступление взяли на себя голое знание, что марш имеет место.Как мы видели, однако, голое знание не кажется достаточным основанием для запрета. Но что касается некоторых других факторов, касающихся оскорбительную речь, упомянутую выше, Файнберг предполагает, что марш через Скоки не очень хорошо: социальная ценность речи кажется маргинальным, количество обиженных будет большим, а трудно понять, насколько это отвечает интересам общества. Эти причины также справедливы для насильственной порнографии, которую Файнберг предложения не должны быть запрещены по причине оскорбления.
Однако ключевым отличием является интенсивность преступления; это особенно остро с языком вражды, потому что он направлен на относительно небольшая и специфическая аудитория. Мотивы ораторы в примере Скоки, казалось, разжигали страх и ненависть и прямо оскорблять членов сообщества, используя Нацистские символы. По словам Файнберга, не было никаких политических содержание речи. Различие между насильственной порнографией и Пример Скоки языка вражды заключается в том, что определенная группа людей были нацелены, и послание ненависти было разослано таким образом, что этого было нелегко избежать.Именно по этим причинам Файнберг предполагает, что язык вражды может быть ограничен принципом оскорбления.
Он также утверждает, что при драке слова используются, чтобы спровоцировать людей, которые запрещены законом использовать боевые действия, преступление достаточно глубокие, чтобы учесть запрет. Если порнографы занимались такое же поведение и маршировали через районы, где они были могут встретить большое сопротивление и причинить серьезное оскорбление, они тоже следует воспрепятствовать этому. Поэтому ясно, что важнейшим компонентом принципа правонарушения является то, может ли правонарушение избегать.Принцип Файнберга означает, что многие формы языка вражды все равно будет разрешено, если правонарушения легко избежать. Это все еще позволяет нацистам встречаться в уединенных местах или даже в общественных местах, легко обойти. Рекламу таких встреч можно редактировать. (потому что их труднее избежать), но запрещать их нельзя. Это Похоже, Файнберг считает, что разжигание ненависти само по себе причинить прямой вред правам целевой группы (он не утверждая, что преступление равносильно причинению вреда), и он будет обеспокоен некоторыми из запреты на выступления в У.К. и Австралия.
4.1 Демократическое гражданство и порнография
Очень немногие либеральные демократии, если таковые вообще имеются, готовы поддержать Миллиан считает, что только слова, наносящие прямой вред правам, должны быть запрещенный. Большинство поддерживает ту или иную форму принципа преступления. Некоторые либеральные философы желают расширить сферу государственного дальнейшее вмешательство и утверждают, что язык вражды следует запретить даже если это не причиняет вреда или не причиняет неизбежного вреда. Причина, по которой это должно быть запрещенным, потому что это несовместимо с основными ценностями либеральная демократия, чтобы заклеймить некоторых граждан как неполноценных на основании раса, религия, пол или сексуальная ориентация.То же самое относится к порнография; это следует предотвратить, потому что это несовместимо с демократическое гражданство для изображения женщин как покорных сексуальных объектов, которые, кажется, получают удовольствие от жестокого обращения. Рэй Лэнгтон, для пример, начинается с либеральной предпосылки равной заботы и уважения и приходит к выводу, что удаление определенной речи оправдано защита для порнографов. Она избегает основывать свои аргументы на вреде: «Если бы, например, имелись убедительные доказательства связи порнография к насилию, можно было бы просто оправдать запретительный стратегия на основе принципа вреда.Однако запретительный аргументы, выдвинутые в этой статье, не требуют эмпирических предпосылок такой сильный … вместо этого они полагаются на понятие равенство »(1990, 313).
Работая в рамках аргументов Рональда Дворкина, кто против запретительных мер, она пытается продемонстрировать, что эгалитарные либералы, такие как Дворкин, должны поддерживать запрет порнография. Она предполагает, что у нас есть «причины для беспокойства. о порнографии не потому, что это вызывает моральные подозрения, а потому, что мы заботиться о равенстве и правах женщин »(1990, 311).Лэнгтон заключает, что «женщины как группа имеют права против производителей и потребителей порнографии и, следовательно, имеют права, которые являются козырями политики разрешения порнографии … разрешительная политика противоречит принципу равной заботы и уважение, и что женщины, соответственно, имеют права против этого » (1990, 346). Потому что она не основывает свои аргументы на вреде в принципе, ей не нужно доказывать, что женщинам причиняют вред порнография. Однако для того, чтобы аргумент был убедительным, необходимо согласны с тем, что разрешение порнографии означает, что женщины не относятся с равной заботой и уважением.Также кажется, что аргумент может быть применен к непорнографическим материалам, изображающим женщин унизительным образом, что подрывает их статус равных.
4.2 Демократическое гражданство и язык вражды
Чтобы аргументировать приведенный выше случай, нужно ослабить поддержку свободы. выражения в пользу других принципов, таких как равное уважение все граждане. По мнению Стэнли Фиша, это разумный подход. Он предполагает, что задача, с которой мы сталкиваемся, состоит не в том, чтобы быстро и быстро решать принципы, ставящие во главу угла все выступления.Вместо этого мы должны найти работоспособный компромисс, в котором должное внимание уделяется множеству ценностей. Сторонники этой точки зрения напомнят нам, что когда мы обсуждаем свобода слова, мы не занимаемся ею изолированно; что мы делать — это сравнивать свободу слова с другими благами. Мы должны решить лучше ли придавать речи большее значение, чем ценность конфиденциальности, безопасности, равенства или предотвращения вреда.
Рыба предполагает, что нам нужно найти баланс, в котором «мы должны в каждом случае учитывать, что поставлено на карту и каковы риски, и выигрыш от альтернативного образа действий »(1994, 111).Речь продвижение или подрыв наших основных ценностей? «Если вы не спросите этот вопрос или какую-то его версию, но просто скажите, что речь речь и все, вы вводите в заблуждение — представляете произвольный и необоснованный указ — политика, которая будет казаться причудливой или хуже тем, чьим интересам это вредит или отвергает »(1994, 123).
Задача не в том, чтобы придумывать принципы, которые всегда благоприятствуют выражения, а, скорее, чтобы решить, что такое хорошая речь, а что плохая речь. Хорошая политика »не предполагает, что единственно актуальный сфера действия — голова и гортань человека динамик »(Fish, 1994, 126).Это больше соответствует ценности демократического общества, в котором все люди считаются равными, разрешить или запретить высказывания, выделяющие конкретных лиц и группы меньше чем равные? Фиш отвечает: «Это зависит от обстоятельств. я я не говорю, что принципы Первой поправки по своей сути плохи (они по своей сути ничто), только то, что они не всегда подходят ориентир для ситуаций, связанных с производством речь »(1994, 113). Но, учитывая все обстоятельства, «Я убедил, что в настоящий момент, прямо сейчас, риск не внимание к разжиганию ненависти больше, чем риск того, что регулирование это мы лишим себя ценных голосов и идей или слайд по скользкой дорожке к тирании.Это приговор, по которому Я могу предложить причины, но никаких гарантий »(1994, 115).
Подобные оправдания запрета на разжигание ненависти предполагают что разрешительный подход подрывает свободу слова должным образом понял. Даже если язык вражды или порнография не причиняют вреда (в Милля) или оскорбление, оно должно быть ограничено, потому что несовместимо с демократией iteslf. Аргумент от демократии утверждает, что политическая речь важна не только для легитимность режима, но для создания среды, в которой люди могут развивать и реализовывать свои цели, таланты и способности.Если язык вражды и порнография ограничивают развитие таких способности в определенных слоях сообщества, у нас есть аргумент, на основании причин, используемых для оправдания свободы слова, для запрета.
По словам Фиша, границы свободы слова не могут быть установлены в камень по философским принципам. Это мир политики, решает, что мы можем и не можем сказать, руководствуясь, но не ограничиваясь мир абстрактной философии. Рыба предполагает, что свобода слова касается политические победы и поражения.Само руководство по разметке защищенные от незащищенной речи являются результатом этой битвы, а чем истины сами по себе: «Нет такой вещи, как бесплатная (неидеологически ограниченная) речь; нет такой вещи как публичный форум очищены от идеологического давления исключения »(Fish, 1994, 116). Речь всегда проходит в среде убеждений, предположения и восприятия, т. е. в рамках структурированного Мир. По словам Фиша, нужно выйти и спорить. для своего положения.
Согласно Фишу, мы должны задать три вопроса: «[g] iven that это речь, что она делает, хотим ли мы, чтобы это было сделано, и многое другое быть полученным или потерянным, двигаясь, чтобы сократить его? » (1994, 127). Он предполагает, что ответы, к которым мы приходим, будут варьироваться в зависимости от контекст. Свобода слова будет более ограничена в вооруженных силах, где лежащая в основе ценность иерархия и авторитет, чем она будет университет, где одна из главных ценностей — выражение идей. Даже в студенческом городке будут разные уровни подходящей речи.У фонтана в центре кампуса должно быть меньше фонтанов. регулируется, чем то, что профессор может сказать во время лекции. Это могло бы вполне приемлемо для меня потратить час своего времени на объяснения прохожие, почему «Манчестер Юнайтед» — отличная футбольная команда, но она бы быть совершенно неуместным (и открытым для осуждения) делать то же самое когда я должен читать лекцию о Томасе Гоббсе. Кампус это не просто «форум свободы слова, но и рабочее место, где люди иметь договорные обязательства, возложенные на него обязанности, педагогические и административные обязанности »(1994, 129).Почти все места в которых мы взаимодействуем, руководствуются лежащими в основе ценностями, и речь будет должны соответствовать этим идеалам: «[r] регулирование свободы слова является определяющей чертой повседневной жизни »(Fish, 1994, 129). Такое мышление о речи избавляет от многих ее загадочностей. Ли мы должны запретить разжигание ненависти — это еще одна проблема, хотя и более серьезная, аналогично тому, должны ли мы позволять профессорам университетов говорить о футбол на лекциях.
4.3 Патерналистское оправдание ограничения речи
Хотя Стэнли Фиш убирает загадочность с ценностью речи, он по-прежнему думает об ограничениях в основном с точки зрения других — относительно последствий.Однако есть аргументы, свидетельствующие о том, что речь может быть ограничена, чтобы предотвратить причинение вреда говорящему. В аргументом здесь является то, что агент может не полностью понимать последствия ее действий (будь то речь или другая форма поведение) и, следовательно, может быть предотвращено от совершения действия. Аргументы, использованные в деле Скоки, подпадают под эту категорию и есть данные, позволяющие предположить, что просмотр порнографии может вызвать психологический ущерб зрителю. Большинство либералов опасаются таких аргументы, потому что они переносят нас в сферу патерналистских вмешательство, когда предполагается, что государство знает лучше, чем человека, что отвечает его интересам.
Милль, например, вообще противник патернализма, но он считает, что есть определенные случаи, когда вмешательство оправдано. Он предполагает, что, если государственный служащий уверен, что мост рухнет, он может помешать переходу человека. Если, однако, есть только опасность, что он рухнет, можно предупредить общественность но не принужден к переходу. Решение здесь, кажется, зависит от вероятность получения травм; тем более определенная травма становится, тем более правомерным вмешательство.Запрещение свободы слова на эти основания очень сомнительны для либералов во всех отношениях, кроме крайних случаев (в случае Скоки это не было убедительным), потому что это очень редко такая речь может создать такую явную опасность для индивидуальный.
Мы рассмотрели некоторые варианты ограничений на бесплатные речи, и человека нельзя классифицировать как либерала, если он желает заблудиться гораздо дальше на арене государственного вмешательства, чем уже обсуждали. Либералы, как правило, объединяются в противодействии патерналистскому и моралистические оправдания ограничения свободы слова.Они держат сильная презумпция в пользу свободы личности, потому что это утверждал, что это единственный способ, которым автономия индивида может быть уважаемым. Файнберг предлагает запретить выступление по причинам кроме уже упомянутых, означает: «[i] t может быть морально законно для государства посредством уголовного закона запрещать определенные виды действий, которые не причиняют ни вреда, ни оскорбления никому один, на том основании, что такие действия составляют или вызывают зло другие виды »(1985, 3).Действия могут быть «злыми», если они опасны для традиционного образа жизни, потому что они аморальны, или потому что они препятствуют совершенствованию человеческой расы. Много аргументы против порнографии принимают форму, что такие материалы неправильно из-за морального вреда, который он наносит потребителю. Либералы выступают против таких взглядов, потому что их не впечатляют государства, пытающиеся формировать моральный облик граждан.
Мы начали это исследование свободы слова с принципа вреда; позволять мы покончим с этим.Принцип предполагает, что нам нужно различать между правовыми санкциями и общественным осуждением как средство ограничения речь. Как уже отмечалось, последнее не запрещает речь, но заставляет неудобно произносить непопулярные заявления. Милл не похоже, поддерживают введение юридических санкций, если они не санкционировано принципом вреда. Как и следовало ожидать, он тоже кажется быть обеспокоенным использованием социального давления как средства ограничения речь. Глава III На свободе — невероятное нападение на социальная цензура, выражающаяся в тирании большинства, потому что он утверждает, что он производит низкорослые, ущемленные, ограниченные и увядшие отдельные лица: «все живут как под присмотром враждебных и страшная цензура … [i] t им в голову не приходит, чтобы склонность, кроме обычного »(1978, 58).Он продолжается:
общая тенденция вещей во всем мире состоит в том, чтобы посредственность восходящая сила среди человечества … в настоящее время люди теряются в толпе … единственная власть, заслуживающая имя принадлежит массам… [i] t действительно кажется, что когда мнения масс простых людей повсюду становятся или становясь доминирующей силой, противовесом и корректирующим тенденция была бы все более и более выраженной индивидуальностью тех стоящие на высших ступенях мысли.(1978, 63–4)
Этими и многими другими комментариями Милль демонстрирует свое отвращение апатичного, непостоянного, утомительного, напуганного и опасного большинства. Поэтому довольно неожиданно обнаружить, что он также, кажется, придерживаться достаточно всеобъемлющего принципа правонарушения, когда санкция вовлекают социальное неодобрение:
Опять же, существует много действий, которые, будучи непосредственно вредными, только для самих агентов, не должны быть запрещены законом, но что, если это делается публично, является нарушением хороших манер и, попадая, таким образом, в категорию преступлений против других лиц, могут быть по праву запрещены.(1978, курсив автора 97)
Точно так же он заявляет, что «Свобода личности должна быть пока ограничено; он не должен причинять себе неудобства »(1978, 53). В последних частях On Liberty Mill также предлагает что неприятных людей можно презирать, что мы можем избежать их (пока мы не выставляем напоказ), что мы можем предупредить других о их, и что мы можем убеждать, уговаривать и упрекать тех, кого считаю оскорбительным. Эти действия являются законными как свободное выражение любой, кого случайно обидят, пока это делается как спонтанная реакция на ошибки человека, а не как форма наказание.
Но те, кто проявляют жестокость, злобу, зависть, неискренность, негодование и грубый эгоизм открыты для большей санкции неодобрения, поскольку форма наказания, потому что эти проступки злы и прочее-касательно. Возможно, эти неисправности влияют на другие, но трудно понять, как действуя со злым умыслом, зависть или обида обязательно нарушает права других. В Единственный способ, которым Милль может предъявить такие претензии, — это включить состав преступления принцип и, следовательно, откажитесь от принципа вреда, поскольку только законные основания для вмешательства в поведение.В целом, Mill’s аргументы об остракизме и неодобрении, кажется, мало что дают защита для человека, который, возможно, говорил в безопасном манерой, но который тем не менее оскорбил чувства массы.
Отсюда мы видим, что один из великих защитников принципа вреда кажется, что избегает этого в определенные критические моменты; даже Милль был не в состоянии защитить свободу слова на этом «простом принцип »в одиночку. Однако он остается важной частью либеральная защита свободы личности.
Либералы обычно оправдывают свободу в целом и свободу слова в в частности, по разным причинам. По словам Милля, свобода слова способствует аутентичности, гениальности, творчеству, индивидуальности и человечности. процветание. Он говорит нам, что если мы запретим выступление, замалчиваемое мнение может быть правдой или содержать часть правды, и это неоспоримое мнения становятся просто предрассудками и мертвыми догмами, которые передаются по наследству а не принят. Это эмпирические утверждения, требующие доказательств. Вероятно ли, что мы усиливаем дело истины, допуская ненависть? речь или жестокие и унижающие достоинство формы порнографии? Стоит размышление о связи между речью и правдой.Если бы у нас был график где одна ось — правда, а другая — свобода слова, получим ли мы одну дополнительная единица истины за каждую лишнюю единицу свободы слова? Как такое вещь хоть измерить? Конечно, сомнительно, что аргументы перерастают в предрассудки, если они не оспаривается. Защитники дьявола часто скорее утомительны, чем полезны собеседники. Иногда сторонникам свободы слова нравится недоброжелатели, имеют тенденцию делать утверждения, не предоставляя неопровержимые доказательства, подтверждающие их.Ничего из этого не означает что свобода слова не жизненно важна: на самом деле это именно то, Причина, по которой нам нужно найти аргументы в ее пользу. Но независимо от насколько хороши эти аргументы, придется наложить некоторые ограничения на речь.
Мы обнаружили, что принцип вреда дает основания за ограничение свободы слова, когда это предотвращает прямой ущерб правам. Это означает, что следует запретить очень мало речевых действий. Может быть возможно расширить рамки этого принципа, поскольку Уолдрон пытается делать, включать вещи, кроме вредных нарушений прав.Версия принципа нападения, предложенная Файнбергом, имеет более широкий охват, чем принцип вреда, но он по-прежнему рекомендует очень ограниченное вмешательство в область свободы слова. Все формы речи, которые обнаруживаются оскорбительные, но которых легко избежать, должны оставаться безнаказанными. Это означает, что порнография и разжигание ненависти ускользнут от порицания.
Если эти аргументы приемлемы, кажется разумным их расширить. к другим формам поведения. Например, публичная нагота не вызывает серьезный вред, и если это действительно оскорбляет некоторых людей, это, самое большее, немного смущающий, и избегается, отводя глаза.То же самое с наготой, сексом и нецензурной бранью на телевидении. Отключение телевидение обеспечивает мгновенное избавление от правонарушений. Ни вреда или принципы правонарушения, изложенные в поддержке Милля и Файнберга криминализация большей части употребления наркотиков, а также принудительное использование ремней безопасности, аварии шлемы и тому подобное.
Некоторые утверждают, что слова можно ограничить ради других либеральных ценности, особенно забота о демократическом равенстве. Этот аргумент, в отличие от аргументов, основанных на причинении вреда и оскорблении, может разрешить значительные ограничения на порнографию и разжигание ненависти.Претензия не то, что речь всегда должна проигрывать, когда она сталкивается с равенством, но он, конечно, не должен быть автоматически привилегированным. Расширить запрет на слова и другие действия за пределами этого пункта требует аргумент в пользу формы правового патернализма, который предполагает, что государство может решить, что приемлемо для безопасности и нравственного воспитания граждан, даже если это означает ограничение действий, не причиняющих вреда или неизбежное преступление и которое не подрывает демократическое равенство.
Это, безусловно, было практикой большинства обществ, даже либерально-демократические, чтобы наложить некоторые патерналистские ограничения на поведение и ограничение высказываний, вызывающих оскорбление, которого можно избежать.Следовательно свобода выражения мнения, поддерживаемая принципом вреда, изложенным в Глава первая О свободе и преступном принципе Файнберга еще предстоит реализовать. Читатель должен решить, общество — привлекательная возможность.
Что такое свобода? И что это значит для вас?
Хороша ли полная свобода?Кажется, мы живем в мире, где жива свобода благодаря определенному уровню контроля. Исторически и в наши дни на поиск примеров рабства уходит очень мало времени.
Вам было бы сложно найти кого-то, кому нравится быть рабом, но возможно ли, чтобы каждый во всем мире был полностью свободен?
Без наших ежедневных ограничений, таких как необходимость оплачивать счета, уложиться в срок или находиться в определенном месте.
Кажется сомнительным, что, оказавшись в таком состоянии, мы действительно смогли бы это оценить. Все относительно, и довольно скоро люди могут почувствовать давление другого ограничения.
Как всегда, вопросов больше, чем ответов…
Такова жизнь в кафе Аристотеля.
Невежество — свобода?Одно из многих мнений, которые возникли, когда мы спросили людей: «Что для вас значит свобода?»
Было время свободы.
Это довольно просто: свобода времени — это возможность выбирать, что вы хотите делать со своим временем. Это делать то, что вы любите делать больше всего сейчас, а не позже.
Это может означать, что нужно больше сосредотачиваться на личном благополучии и счастье, или это может означать делать все безумные вещи, которые вы всегда хотели делать.
Главное правило состоит в том, что если вы действительно цените и придаете значение свободе времени, вы никогда не скажете: «Я слишком занят, чтобы сделать это» или «У меня нет времени для этого».
Речь идет о свободе и спонтанности, чтобы делать выбор по мере его поступления.
Самая большая проблема в получении такого удовольствия от жизни — это то, над чем мы все смеялись. У вас может быть много времени, но не будет много денег.
Конечно, когда дело доходит до этого, есть редкие индивидуумы и отстающие, но по большей части люди обменивают свое время и рабочее время на деньги.Так выживает большая часть мира.
Это будет означать, что лишь немногие люди смогут по-настоящему наслаждаться свободой времени, и это может быть связано с их знаниями.
Эта идея подводит нас к другому интересному вопросу…
Общество способствовало вашей свободе?Мы обнаружили, что для некоторых это так. Один человек в группе сказал: «Вся моя свобода исходит от общества. Если бы меня лишили того, что другие люди делают для меня, ничего бы не осталось.”
Следовательно, с одной стороны, определенные общества могут предоставить кому-то свободу. Это может дать кому-то выбор, несколько направлений, свободу времени, свободу приобретать знания, работу и изучать чужие взгляды, мнения и т. Д.
Общество может быть полезно для предоставления свободы большинству, применяя некоторые ограничения…
Мы можем помочь предоставить свободу нуждающимся. Работая вместе по определенным правилам и законам.
С другой стороны, общество может лишить вас ваших желаний, мыслей, мечтаний, так что, если вы хотите одеваться определенным образом, который идет вразрез со стандартами и идеалами общества, вы можете подвергнуться насмешкам, издевательствам, оскорблениям и больше не чувствовать себя свободным. одеваться таким образом.
Общество может сбить вас с пути от понимания того, кто вы есть и кем хотите быть.
Что такое свобода слова?
Свобода слова — это право говорить все, что вам нравится, о чем угодно и когда угодно, верно? Неправильный.
«Свобода слова — это право искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода любыми средствами».
Свобода слова и право на свободу выражения распространяется на все виды идей, включая те, которые могут быть глубоко оскорбительными.Но это связано с определенными обязанностями, и мы считаем, что его можно законно ограничить.
Когда свобода слова может быть ограничена
Возможно, вы не ожидаете, что мы скажем это, но в определенных обстоятельствах свобода слова и свобода выражения могут быть ограничены.
Правительства обязаны запрещать разжигание ненависти и подстрекательство. И ограничения также могут быть оправданы, если они защищают конкретные общественные интересы или права и репутацию других лиц.
Любые ограничения свободы слова и свободы выражения мнения должны быть изложены в законах, которые, в свою очередь, должны быть четкими и краткими, чтобы каждый мог их понять.
Люди, вводящие ограничения (будь то правительство, работодатели или кто-либо еще), должны иметь возможность продемонстрировать необходимость в них, и они должны быть соразмерными.
Все это должно быть подкреплено гарантиями, чтобы остановить злоупотребление этими ограничениями и включить надлежащий процесс обжалования.
… и когда не может
Ограничения, которые не соответствуют всем этим условиям, нарушают свободу слова.
Мы считаем, что люди, заключенные в тюрьму исключительно за осуществление своего права на свободу слова, являются узниками совести.
Джаббар Савалан был заключен в тюрьму после призывов к протестам против правительства в Facebook. Мы считали его узником совести и агитировали за его освобождение. Прочитать историю ДжаббараСистема контроля и противовеса
Особенности
Любые ограничения должны быть как можно более конкретными. Было бы неправильно банить весь сайт из-за проблемы с одной страницей.
Национальная безопасность и общественный порядок
Эти термины должны быть четко определены в законе, чтобы их нельзя было использовать в качестве оправдания чрезмерных ограничений.
Мораль
Это очень субъективная область, но любые ограничения не должны основываться на какой-то одной традиции или религии и не должны дискриминировать кого-либо, живущего в конкретной стране.
Права и репутация других лиц
Государственные служащие должны терпеть больше критики, чем частные лица. Таким образом, законы о диффамации, которые останавливают законную критику правительства или государственного должностного лица, нарушают право на свободу слова.
Богохульство
Защита абстрактных концепций, религиозных убеждений или других убеждений или чувств людей, которые в них верят, не является основанием для ограничения свободы слова.
СМИ и журналисты
Журналисты и блоггеры сталкиваются с особыми рисками из-за выполняемой ими работы.

