Кто относится к интеллигенции: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ | Энциклопедия Кругосвет
совесть нации или прослойка при власти
Елена Фанайлова: Свобода в Клубе «Квартира 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита, образованный класс. О существовании и трансформации этих понятий в современной России мы сегодня поговорим с социологом, директором Аналитического «Левада-Центра» Львом Гудковым, с психологом Сергеем Ениколоповым, заведующим отделом медицинской психологии Центра психического здоровья Российской Академии медицинских наук, с Александром Дмитриевым, заведующим отделом теории журнала «Новое литературное обозрение», с главным редактором издательства «Ad Marginem», философом Александром Ивановым, с Борисом Кагарлицким, социологом, публицистом, директором Института глобализации и социальных движений, с экономистом, журналистом Ириной Ясиной, которая представляет Фонд «Либеральная миссия», и с писателем и поэтом Татьяной Щербина.
Энциклопедия дает такое определение интеллигенции: от латинского — понимающий, мыслящий, разумный.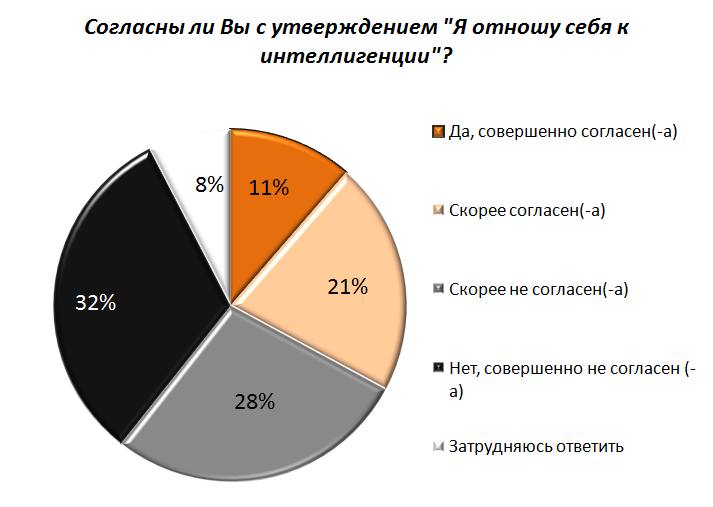
Кем вы себя сами считаете? К какому классу или, как мы сказали бы в старые времена, прослойке вы себя относите?
Лев Гудков: Ну, интеллектуал, поскольку это профессиональное занятие, требующее определенной квалификации, и в этом качестве выступаю на рынок и предлагаю некоторые профессиональные знания.
Сергей Ениколопов: Ничего другого не могу добавить, как тоже, и давно уже считал себя интеллектуалом, но никак не интеллигентом.
Ирина Ясина: Вы знаете, я как раз как-то себя отождествляю практически с тем определением из энциклопедии, которое, Лена, вы зачитали.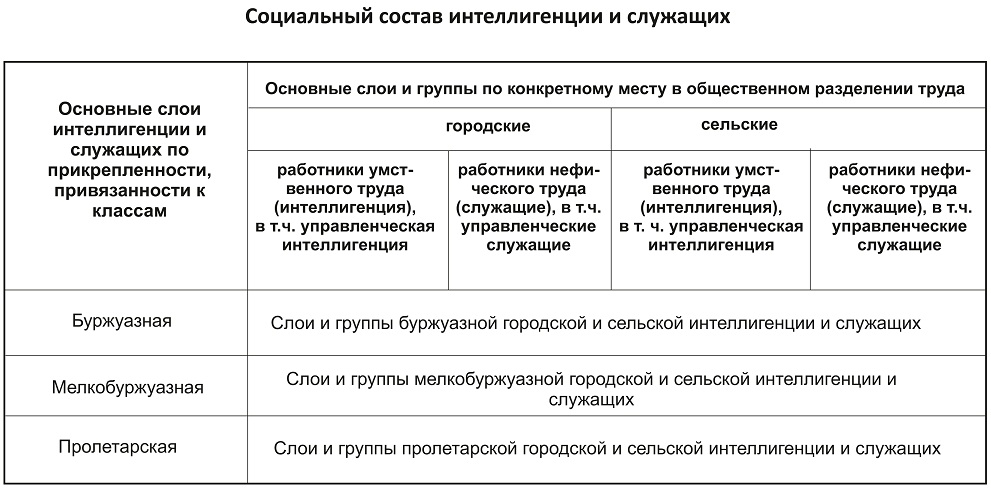 И мне кажется, что я интеллигентка, может быть, даже «гнилая». В меньшей степени – интеллектуал, поскольку тут моральные нормы, и они тоже очень весомы у меня.
И мне кажется, что я интеллигентка, может быть, даже «гнилая». В меньшей степени – интеллектуал, поскольку тут моральные нормы, и они тоже очень весомы у меня.
Борис Кагарлицкий: Вы знаете, назови хоть горшком, только в печь не ставь. В этих категориях никак себя не идентифицирую. Лет 20 назад, наверное, в молодости называл бы себя интеллигентом. Но с тех пор исчезло такое понятие, как «советская интеллигенция», к которой мы принадлежали. Потому, наверное, просто сам по себе. Человек сам по себе.
Елена Фанайлова: Пишущий?
Борис Кагарлицкий: Ну так, что делать?..
Елена Фанайлова: Но какое-то самоопределение все-таки имеется?
Борис Кагарлицкий:
Александр Дмитриев: Наверное, профессионал, но интеллектуалом себя назвать не готов, поскольку тут очень важна составляющая политическая и социальная, а с этим, мне кажется, в современной России есть довольно большие проблемы. Поэтому человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов – реже.
Поэтому человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов – реже.
Татьяна Щербина: Можете считать меня маньяком, потому что о чем бы ни шла речь, я всегда привожу в пример Францию. Вот там определения, на мой взгляд, более адекватные. То, что у нас называют «интеллигент», это «une personnecultivee», то есть «человек окультуренный». В сегодняшнем смысле слова «интеллигент», наверное, вот этот самый «une personnecultivee». А советский интеллигент – это, конечно, вымирающее, так сказать. Ну, остались еще такие люди, но это уже не задействованное в жизни или очень слабо задействованное в жизни. И потом, есть «artiste», то есть «художник», есть «intellectuel», «интеллектуал» – это тоже разделяется, это разные в этом смысле вещи. Есть сознание мелкобуржуазное, когда человек живет ценностями мелкобуржуазного. Есть крупная буржуазия и есть аристократия. Это более какое-то адекватное разделение, мне кажется. И я – нечто среднее между художником и интеллектуалом.
Александр Иванов: Сложно определить. Наверное, такое определение «интеллигент-расстрига». То есть мне очень нравится то, как Таня определяла. Дело в том, что интеллигент все-таки предполагал какую-то очевидную институциональность жизни, которая была какое-то время назад. А она выражала себя не только в каких-то институциях социальных, но и даже в форме одежды, в выражении лица и так далее. Конечно, все это куда-то делось. И в этом смысле мы… я, по крайней мере, точно интеллигент-расстрига, в смысле еще полубогемного, межеумочного статуса современного человека умственного труда в России. И если он не задействован в госструктурах, то он особо никому сильно не нужен. Он, скорее, предоставлен сам себе, что, на мой взгляд, совсем неплохо.
Елена Фанайлова: Довольно важную вещь сказал Александр Дмитриев о том, что имеются политические и социальные составляющие обязательно у этого определения. Я несколько лет назад имела разговор с замечательным молодым человеком – с Давидом Риффом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы, русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. В общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей, у русских интеллектуалов и у русских артистов».
Я несколько лет назад имела разговор с замечательным молодым человеком – с Давидом Риффом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы, русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. В общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей, у русских интеллектуалов и у русских артистов».
Лев Гудков: Чего ж тут удивительного? Политика как сфера деятельности, как самосознание, она исчезла. Меня, вообще говоря, забавляет периодическое появление проблематики интеллигенции. Когда лет 20 назад начали об этом писать, и мы с Борисом приложили к этому руку, мы думали, что, вообще-то, тема будет раз и навсегда закрыта. Видимо, повторяются условия, когда для профессиональной, для политической деятельности приходит конец – и возникает опять необходимость внесения нравственных идей, интеллектуальных идей, просвещение масс и представительства за народ перед властью.
Поэтому проблематика интеллигенции – именно соединение профессионализма, нравственности, знания и еще чего-то – это, значит, потеря самоопределения, назначения, дисквалификация в профессиональном смысле. Да еще плюс политическая проблематика, как нравственное, как интеллектуальное сопротивление вносится. Поэтому полностью исчезает всякая возможность для различия, для самоопределения, для квалификации. Можно быть нравственным человеком и абсолютно в непрофессиональном смысле, лишь бы человек, что называется, был хороший и порядочный.
Александр Иванов: Слово «интеллигенция», оно очень старое, схоластическое слово. И если мы начинаем с социологического определения интеллигенции, то мы совершаем бросок вперед, не разобравшись со схоластическим понятием этого слова, которое Кант, например, очень активно использовал.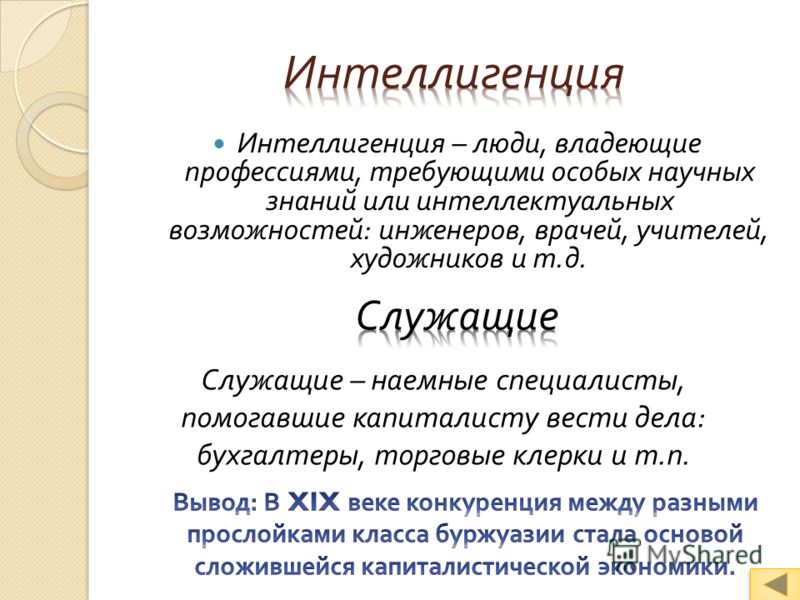
Елена Фанайлова: Саша, я еще одно дополнение внесу, опять же из энциклопедии. «Термин «интеллигенция» был введен писателем Петром Дмитриевичем Боборыкиным в 1866 году и из русского языка перешел в другие языки», — пишет нам энциклопедия.
Лев Гудков: В строгом смысле, к истории если понятие, то в русский язык оно пришло в начале XIX века от Шеллинга, Кружок московских любомудров. И они внесли это понятие как разумности. Приписывается изобретение, действительно, Боборыкину, хотя уже в дневниках Жуковского встречается определение интеллигенции. Он употреблял это так: «Наше лучшее петербургское дворянство, европейски образованная и мыслящая интеллигенция». Это 28-ой или 29-ый год. Иначе говоря, здесь соединяется европейскость, образованность, ориентированность на Европу, как на цивилизацию, и необходимость просвещать народ. Так что все три составляющие, они уже там появляются.
Сергей Ениколопов: А еще – мыслящие.
Лев Гудков: Да, еще — мыслящие, обязательно. Еще критически мыслящие.
Александр Иванов: Согласно традиции, европейской традиции, интеллигенция – это не предметное понятие. То есть в этом смысле мы не можем употреблять это слово… выражаясь философским жаргоном, мы не можем его употреблять как предикат. То есть мы не можем употреблять, например, слово — «смотри, какая на ней интеллигентная кофточка», например. То есть «интеллигенция» означает… ну, если совсем просто говорить – это «я сам». Вот что такое интеллигенция. Это то, что определяется способностью к автономии. А поскольку главной версией автономии для европейской традиции является автономия думанья, то интеллигенция – это нечто, что определяется только одним свойством – способностью думать. Вот если мы уйдем от этого определения и начнем предметно определять: а вот это у нас будет интеллигенция, а вот это не интеллигенция, — то мы утратим, мне кажется, самый главный нерв этого понятия – способность к автономному мышлению.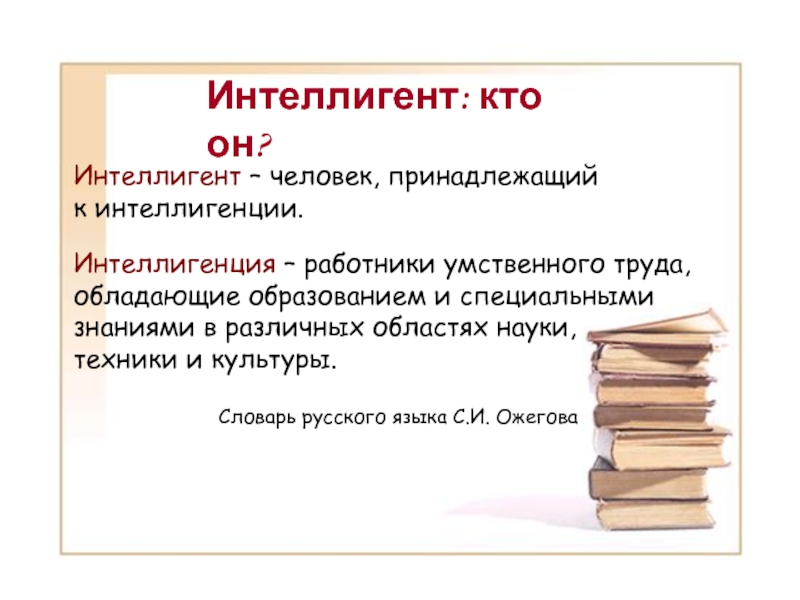
Борис Кагарлицкий: Способность к автономному мышлению — действительно, это то, что интеллигенция сама для себя описывает как важнейшую характеристику. И кстати говоря, абсолютно согласен с Александром в том, что эта способность требует постоянной защиты, причем не только в России, но и в других обществах. Но специфика-то русской, или российской, интеллигенции всегда была совершенно в другом. Не только в том, что, скажем, власть или какие-то общественные структуры подавляли способность критически мыслить. Мы можем привести массу примеров того же самого и на Западе, и где угодно. Но проблема была в том, что российские интеллектуалы никак не могли стать западными интеллектуалами, хотя очень хотели.
Если уж тут начали цитировать всякие французские дефиниции, то, напоминаю, Сартр, который писал, что интеллектуал – это техник практического знания. То есть человек, который какие-то мыслительные свои возможности и образование использует для решения каких-то конкретных, в том числе технических, проблем. Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирования вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получилось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в XIX веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли, то их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента.
Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирования вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получилось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в XIX веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли, то их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента.
И поэтому, когда я говорю, что я, например, не могу себя определять как советского интеллигента, потому что та советская интеллигенция умерла, я не исключаю того, что появится достаточно скоро, а может быть, уже появляется новая интеллигенция, которая попадает в то же самое ощущение дискомфорта, и этим же ощущением порождается. То есть в этом смысле когда, допустим, Лена говорит, что она принадлежит к категории разночинцев, то мне это очень нравится. Потому что, да, в социологическом плане или в плане табели о рангах это абсолютный абсурд – какие могут быть разночинцы сейчас? Но вот психологический механизм, психологические, культурные переживания русского разночинца конца или середины XIX века, они, в общем, в значительной мере воспроизводятся современным, уже российским интеллигентом.
Потому что, да, в социологическом плане или в плане табели о рангах это абсолютный абсурд – какие могут быть разночинцы сейчас? Но вот психологический механизм, психологические, культурные переживания русского разночинца конца или середины XIX века, они, в общем, в значительной мере воспроизводятся современным, уже российским интеллигентом.
Лев Гудков: Может быть, мы введем еще и понятие «лишние люди»?
Борис Кагарлицкий: Это понятие абсолютно фундаментально для самоопределения интеллигенции. Это очень важное понятие.
Ирина Ясина: Хочется изобразить из себя неинтеллигенцию и сказать словами конферансье из знаменитого «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова: «Банкет, банкет… По-нашему говоря, ставишь поллитру». Я согласилась с тем, что я вот соответствую определению из старой энциклопедии, просто потому, что всех этих умных слов я знаю меньше вашего. Я не могу сказать, что я этим горжусь или это меня сильно тревожит, совсем наоборот. Я к этому отношусь более чем спокойно.
Я к этому отношусь более чем спокойно.
Я только хочу сказать, что для интеллигента, как мне кажется, абсолютно присуще понятие рефлексии. Иногда чрезмерной рефлексии. И за это нас не любят, говорят: «Вот они ничего не делают, а только осмысливают, тревожатся, переживают, ставят сами себе на вид». А в этой связи я все время думаю: «Вот как же интеллигентным мужчинам плохо. Я хоть могу на себя в зеркало не смотреть, а вам же бриться, бедным, надо каждое утро». И смотришь на себя в зеркало: «Вот с бородой хорошо, отлично». Смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Какой нехороший человек». Это рефлексия. Оценка самого себя, умение посмотреть на себя со стороны, признать собственные ошибки – мне кажется, это краеугольный камень, это очень важно. В этом смысле у нас не очень интеллигентная страна, в этом смысле. Потому что признавать собственные ошибки нам не дано. Мы не любим, мы кричим: «Это не я!». Мы в этом смысле подростки, которые предпочитают спрятаться, скрыть, от мамки убежать, но ни в коем случае не сказать: «Я был неправ».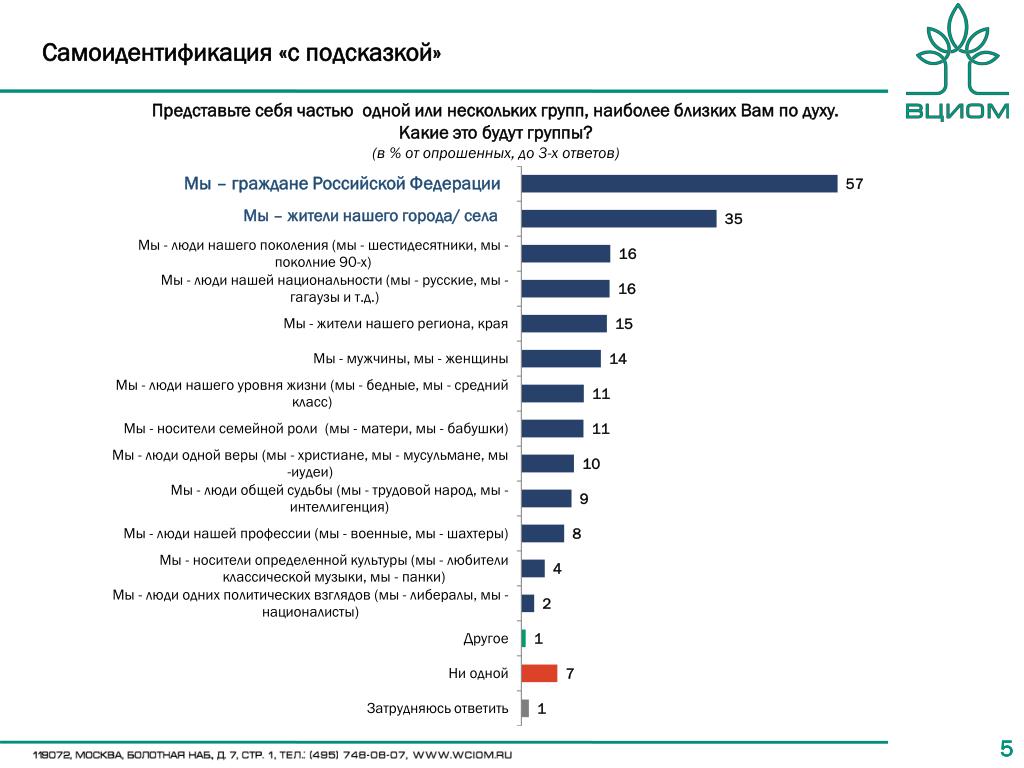
Александр Дмитриев: Я вспомнил одно из определений Александра Кустарева, историка, и тоже и вашего, Лена, коллеги с Би-Би-Си, который назвал свою книжку о русской интеллигенции «Нервные люди».
Проблема, как мне кажется, в том, что постоянно у нас всплывают как бы две темы. Тема, во-первых, внешнего контура, и во-вторых, неизбежного для собравшихся за одним столом профессионалов, интеллигентов и интеллектуалов нарциссизма. Мы начинаем говорить об интеллигенции, имея в виду самих себя, забывая о том, что есть внешний контур. И один из них здесь уже назван – это Запад. И постоянное соотнесение себя, ну или интеллигенции вообще с Западом. И никуда мы от этого деться не можем. Хотя здесь тоже есть вопрос, как мне кажется, меняющийся в самое последние годы, когда эта привычная дихотомия становится и все более острой, и в то же время как бы размывается просто социальными практиками, большей открытостью страны, хотя бы условно, хотя бы возможностью поехать, посмотреть, как там, и вернуться сюда.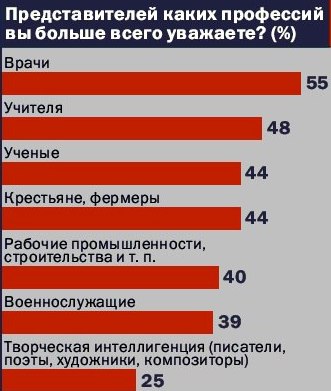
А проблема-то в том, что во всех этих трех понятиях – профессионал, в социальном, интеллектуал, в политическом, и интеллигент, в моральном, — есть и проблема, так сказать, нашей постсоветскости, которая тоже здесь расставилась. Мне кажется, что опять-таки в самое последнее время складывается та ситуация, когда уже довольно трудно говорить о постсоветскости и оглядываться назад. Прошло уже 15 лет, даже больше 15 лет, когда выросло новое поколение, и общество, которое формируется сейчас, уже все меньше себя, как мне кажется, реферирует к тому, что было оставлено 15 лет назад. Хотя какие-то структуры наследия остаются, но мы замечаем, что те ситуации, те институты, которые складываются сейчас, уже не очень объясняются чем-то только разложившимся, только доставшимся нам от советского прошлого и так далее.
И здесь встает одна главная проблема референции – это, собственно, ну, уже, наверное, не народ, то есть что противостоит или что является рядом с этой интеллигенцией, а население, люди. То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие опосредующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс ни определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.
То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие опосредующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс ни определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.
Елена Фанайлова: Я позволю себе последнюю, может быть, нарциссическую реплику, то есть вопрос. Я хочу спросить у Сергея Николаевича Ениколопова. Саша сказал, что мы все нервные люди.
Сергей Ениколопов: Я бы не сказал. Это, действительно, больше относится к этому определению интеллигентов. А поскольку я уже давно, еще в советское время, осознал, что я не интеллигент, а интеллектуал, вот к интеллектуалам это не относится. Они делают свое дело. И их рефлексия, которая, действительно, существует, не находится в столь сильной зависимости от оценочного: «А добро это или зло, то, что я делаю?.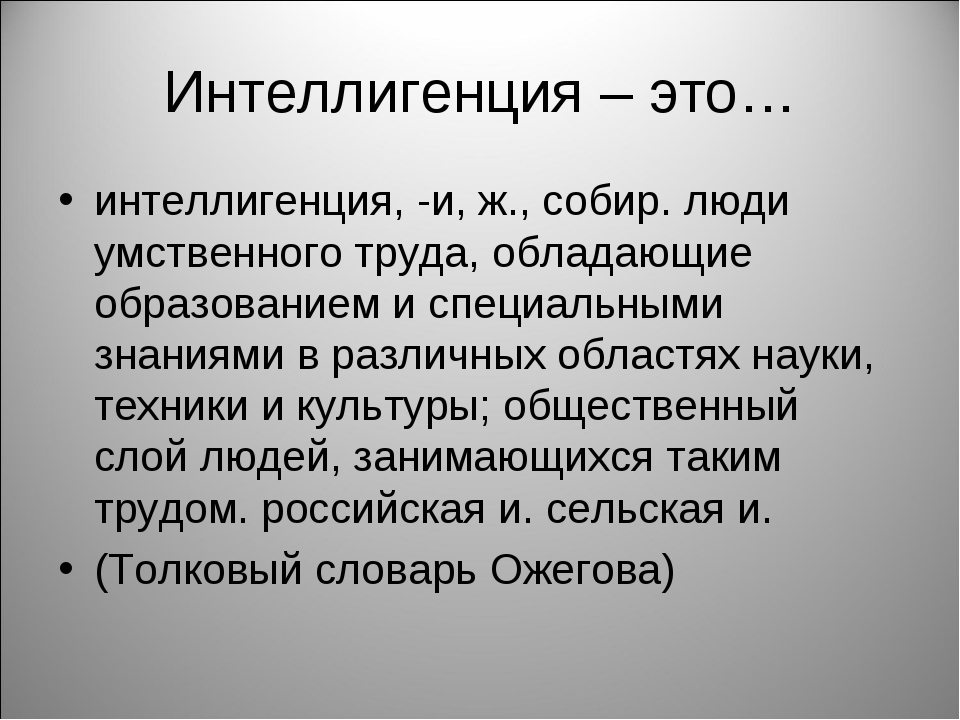 .». Поэтому когда вот этого аксиологического аспекта не существует, то какая нервность по поводу саморефлексии?.. Там и нарциссизма особого нет. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и оценки не только государства… Ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И она его могла так же затоптать, как и государство. Если говорить об интеллигентах, то, да, я понимаю, что они нервные люди. Сложно вот так заниматься, действительно, нарциссической рефлексией. А если говорить об интеллектуалах, то нет у них таких проблем.
.». Поэтому когда вот этого аксиологического аспекта не существует, то какая нервность по поводу саморефлексии?.. Там и нарциссизма особого нет. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и оценки не только государства… Ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И она его могла так же затоптать, как и государство. Если говорить об интеллигентах, то, да, я понимаю, что они нервные люди. Сложно вот так заниматься, действительно, нарциссической рефлексией. А если говорить об интеллектуалах, то нет у них таких проблем.
Елена Фанайлова: Сергей Николаевич, я вспомнила во время вашего рассказа одну из самых любимых своих книг о русской «интеллигенции» — Сологуб «Мелкий бес». Вот там как раз вот эта степень нервности доходит до каких-то чудовищных.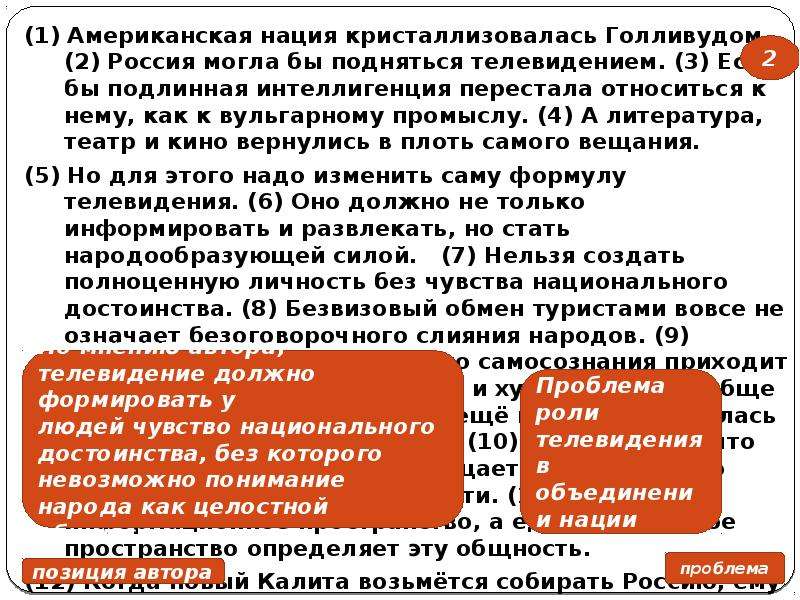 ..
..
Сергей Ениколопов: А я вспомнил другое – «Россию во мгле» Уэллса, когда он описывает посещение Дома ученых и Дома литераторов. Где в Доме литераторов все к нему бросаются: «Как достать лишний паек?», — не мог бы он заступиться, или выезд за границу. А в Доме ученых у него спрашивают: «Жив ли такой-то ученый? Как можно восстановить связи, которые прерваны? А нельзя ли, чтобы они присылали журналы и приборы?». И Уэллс выходит из этих двух домов с тем же самым ощущением, что в одном — все-таки нервные люди, а в другом – достаточно спокойные.
Елена Фанайлова: Празднества МАССОЛИТа, конечно, тут же приходят на ум.
Татьяна Щербина: Две реплики. Я дважды услышала, пока мы разговариваем. Один раз вы сказали, что «я вот на рынке как бы присутствую», а вы сказали что-то, что вот интеллигенцию, которую произвели, но неправильно употребили…
Елена Фанайлова: Не использовали.
Татьяна Щербина: Это просто обратило мое внимание в том смысле, что сегодняшний российский человек, практически все внутри себя воспринимают себя как товар. И это очень специфическая ситуация. Вот вторая реплика по поводу того, что сказала Ира Ясина, что мы в этом смысле подростки. Но мы не только в этом смысле подростки, а собственно, и во всех остальных. Но это не значит, что вот мы были детьми, теперь мы подростки, а потом мы взрослые… А мы так и были подростками. Поскольку жизнь переворачивается с определенной регулярностью, полностью переворачивается, то к ней как-то надо приспосабливаться. И люди, живущие… наши люди, с точки зрения устоявшегося западного общества, они несколько комичны. Потому что у них все эти даже понятия… Ну, вот появились деньги, появились товары, возможность чего-то – и сразу, вдруг все чем-то другим и кем-то другим себя почувствовали.
И потом, когда мы вообще об этом говорим, то мне кажется важным понимать, с чьей точки зрения мы говорим. На сегодняшний день есть три группы, общество разделено на три группы. На самом деле, те же самые, которые были при советской власти. Элита, ну, сегодня она называет себя элитой, а тогда она называла себя по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе – интеллигенция, включая все остальные понятия: интеллектуалы, художники, — вот что-то такое. И третье – то, что называется «народ» или «простой народ», или «простые люди». А представители элиты называют их «быдлом». А вот эту другую прослойку называют «лузерами» и «лохами». Как бы с точки зрения элиты, жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут под ногами путаются две такие категории – это быдло и лузеры, лохи, интеллигенты или как их там всех вместе… Если мы посмотрим с точки зрения просто обычного человека, не занимающегося никакой интеллектуальной, творческой или какой-то деятельности, или научной, то есть — народ, для него это тоже какие-то, в общем, инопланетяне, какие-то совершенно чужие люди.
На сегодняшний день есть три группы, общество разделено на три группы. На самом деле, те же самые, которые были при советской власти. Элита, ну, сегодня она называет себя элитой, а тогда она называла себя по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе – интеллигенция, включая все остальные понятия: интеллектуалы, художники, — вот что-то такое. И третье – то, что называется «народ» или «простой народ», или «простые люди». А представители элиты называют их «быдлом». А вот эту другую прослойку называют «лузерами» и «лохами». Как бы с точки зрения элиты, жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут под ногами путаются две такие категории – это быдло и лузеры, лохи, интеллигенты или как их там всех вместе… Если мы посмотрим с точки зрения просто обычного человека, не занимающегося никакой интеллектуальной, творческой или какой-то деятельности, или научной, то есть — народ, для него это тоже какие-то, в общем, инопланетяне, какие-то совершенно чужие люди.
Нации, на мой взгляд, вообще нет, некоего единства, где все – какой-то один организм. А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека умственного труда и художественного воображения, то что такое элита, вот сегодняшняя наша. Это абсолютно пародийное явление, как советская власть, национализация была, но, на самом деле, это была, как потом говорили, «прихватизация». Было производство. Да, было производство, но какое… Ну, для дикарей. Вот ездили на этих «Жигулях». Производство было, но производство для абсолютных дикарей, а не для белого человека, не для нормального человека, как тогда говорилось.
А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека умственного труда и художественного воображения, то что такое элита, вот сегодняшняя наша. Это абсолютно пародийное явление, как советская власть, национализация была, но, на самом деле, это была, как потом говорили, «прихватизация». Было производство. Да, было производство, но какое… Ну, для дикарей. Вот ездили на этих «Жигулях». Производство было, но производство для абсолютных дикарей, а не для белого человека, не для нормального человека, как тогда говорилось.
В этом смысле опять ничего не изменилось. Абсолютно та же осталась дилемма. С одной стороны – интеллигенция, интеллектуалы, художники и так далее. Они вроде как бы болеют за народ, они хотят, чтобы жизнь была лучше, «вот как бы так сделать…», «мы с народом» или «народ с нами». С другой стороны, они понимают, что этот народ необразован, дик, ну, как-то даже нравственно совершенно находится в каменном веке каком-то, которому вообще ни до чего, который спивается.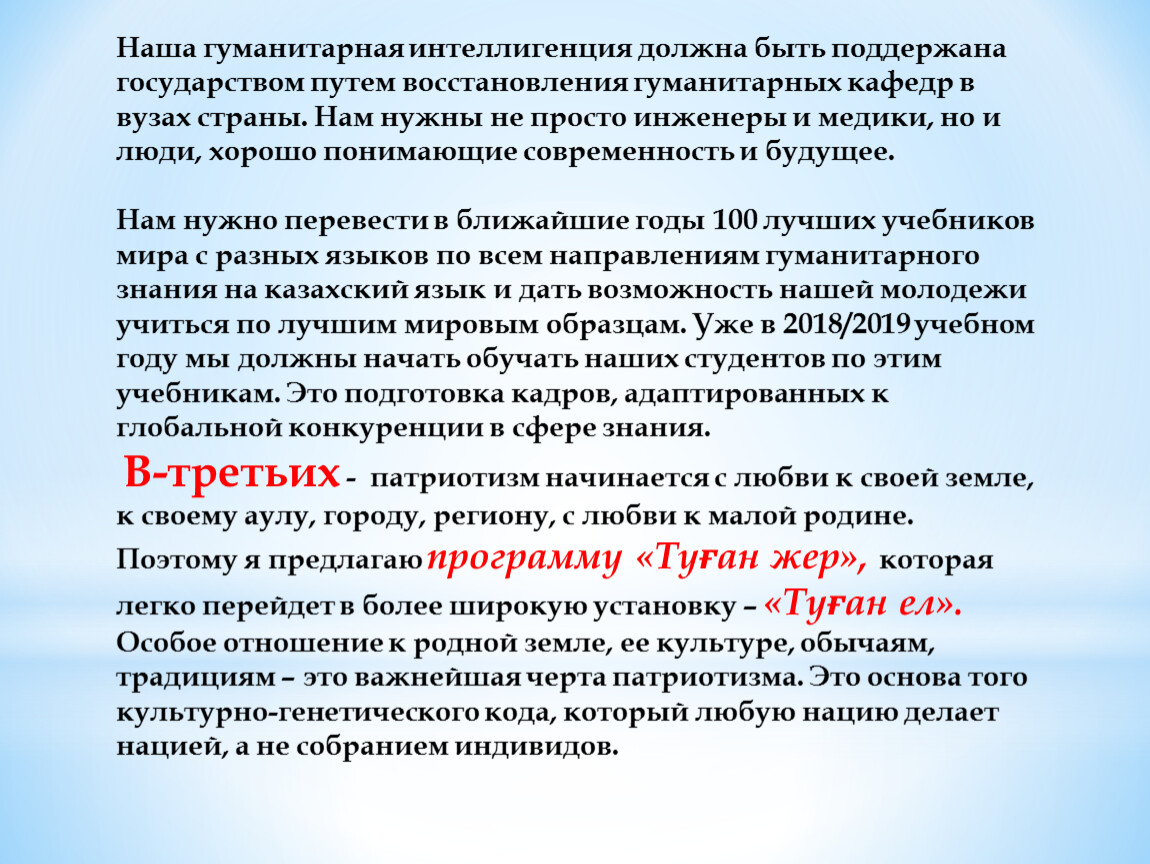 Вот это то, что было и в XIX веке, и в ХХ веке, в принципе, осталось. Принципиально структура не поменялась. Поменялись названия. Но в изменении названия (может быть, дальше мы об этом поговорим) тоже есть свой смысл.
Вот это то, что было и в XIX веке, и в ХХ веке, в принципе, осталось. Принципиально структура не поменялась. Поменялись названия. Но в изменении названия (может быть, дальше мы об этом поговорим) тоже есть свой смысл.
Елена Фанайлова: Это было полемическое выступление Татьяны Щербина, которая сказала, что существуют в России три группы – это элита, она же бывшая номенклатура, это интеллигенция и народ. И ничего не изменилось с советских времен, и элита, она же новая номенклатура, продолжает считать народ быдлом, а интеллигенцию – лузерами. И элита вообще какой-то пародийный имеет вид.
Борис Кагарлицкий: Вообще меня, честно говоря, просто пугают подобного рода заявления. Трудно выразить нарциссизм интеллигенции, о котором мы говорили до сих пор, более полно и более бескомпромиссно. Мы только что слышали, что было какое-то производство для варваров, ездили на каких-то «Жигулях», то есть на «Фиатах». Ровно на таких же, на каких ездили в Италии.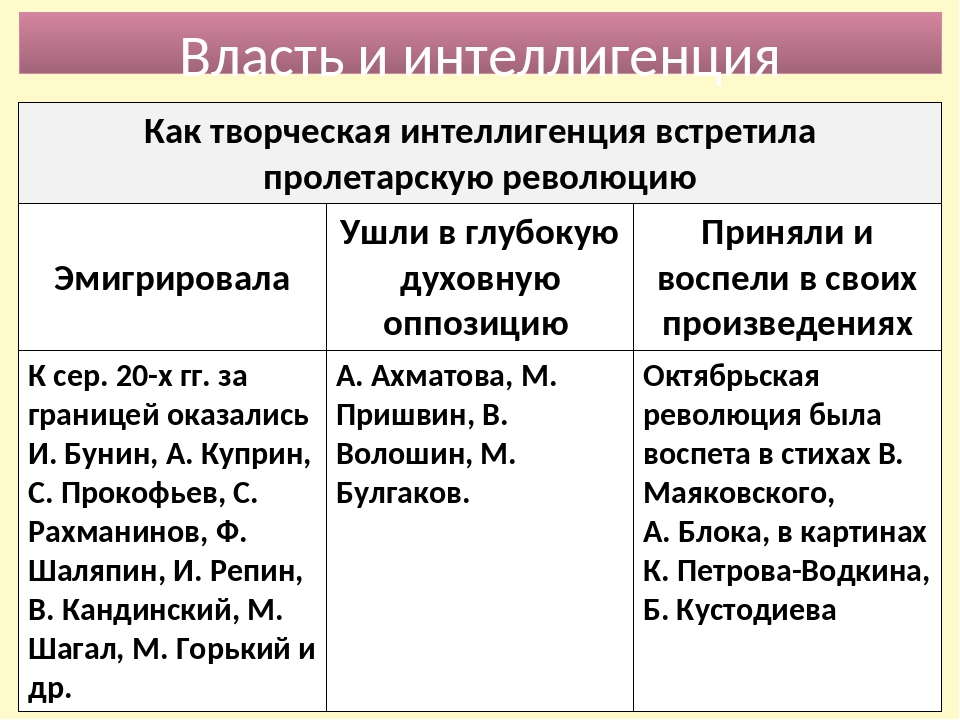 Конечно, не Италия, климат другой, но тем не менее. Или вот: народ у нас необразован, дик… Вы знаете, вообще-то говоря, у нас уровень образования и страна, скажем так, не одна из последних. И изменилось достаточно многое. Не изменилось вот это самодовольство части нашей интеллигенции или, так сказать, остатков нашей старой, советской и еще российской интеллигенции. Это является проблемой, и на мой взгляд, проблемой очень тяжелой.
Конечно, не Италия, климат другой, но тем не менее. Или вот: народ у нас необразован, дик… Вы знаете, вообще-то говоря, у нас уровень образования и страна, скажем так, не одна из последних. И изменилось достаточно многое. Не изменилось вот это самодовольство части нашей интеллигенции или, так сказать, остатков нашей старой, советской и еще российской интеллигенции. Это является проблемой, и на мой взгляд, проблемой очень тяжелой.
Елена Фанайлова: Татьяна Щербина имеет право на ответный удар, я бы сказала.
Татьяна Щербина: «Фиат», он, конечно, «Фиат». Только это «Фиат» 1950-ых годов, которые производили в 1970-ые и в 1980-ые, в то время как во всем мире… Вот было понятие «Жигули» и «иномарка». Даже не было каких-то других. Просто «иномарка» — это как что-то высшее. Поехать за границу – было пределом мечты. А «иномарка» — это уже даже было за пределами мечты. Какие-то пайки, заказы, баночка кофе импортного. .. Это просто выставлялось в сервант на видное место. Когда уже появился «Макдоналдс», то коробочки из-под «Биг-Маков» всяких были выставлены, как статуэтки раньше. Это было что-то абсолютно недостижимое. «Макдоналдс» — это высшее… О чем вы говорите?! Как говорят «белая Африка», вот это была абсолютно «белая Африка».
.. Это просто выставлялось в сервант на видное место. Когда уже появился «Макдоналдс», то коробочки из-под «Биг-Маков» всяких были выставлены, как статуэтки раньше. Это было что-то абсолютно недостижимое. «Макдоналдс» — это высшее… О чем вы говорите?! Как говорят «белая Африка», вот это была абсолютно «белая Африка».
Ирина Ясина: Вот мне очень хочется обсудить понятие элиты теперешней. Я согласна, что элита и номенклатура – это сейчас снова одно и то же. У меня был на моем Клубе региональной журналистики замечательный случай. Выступала у нас Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, пожилая дама, несомненно, интеллигентная. И молодой журналист (или девочка, не помню) из Урюпинска или Владимира (тоже не помню) сказал: «Людмила Михайловна, как же так, что такое элита? Они же — элита. Мы же их так называем». А Людмила Михайловна мудрая ответила: «Деточка, это мы с тобой элита, а они – это верхушка». И вот это понятия «элита» и «верхушка» мне с тех пор нравятся безумно совершенно. Но вот Гудков головой крутит – то ли одобряет, то ли нет. И я уже боюсь дальше говорить.
Но вот Гудков головой крутит – то ли одобряет, то ли нет. И я уже боюсь дальше говорить.
Лев Гудков: Я согласен.
Ирина Ясина: Ура! Гудков со мной согласен.
Лев Гудков: Когда мы проводили опрос среди элиты, вся наша верхушка номенклатуры отбрехивалась. «Мы не элита», — кричали они, и пугались, и злились.
Теперь немножко вернемся назад. Есть два понятия интеллигенции. Одно – XIX века, действительно, это понятие интеллигенции родственно понятию культуры, понятию идентификации. Никакая социальная реальная группа этим определениям не отвечала. Но это был некоторый идеал, это некоторая матрица для идеальной идентификации. И в этом смысле это был, действительно, прообраз модернизационной элиты.
Советская интеллигенция – это бюрократия, это государственные служащие образованные, находящиеся в штате соответствующих учреждений, выстроенные по рангу, тарифицированные, сертифицированные, проверенные и прочее. Они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная, никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым – Платоновым, Вавиловым и прочее. Интеллигенция советская – это те, кто обеспечивал функционирование этого режима, — журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее.
Они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная, никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым – Платоновым, Вавиловым и прочее. Интеллигенция советская – это те, кто обеспечивал функционирование этого режима, — журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее.
Елена Фанайлова: Историки, преподаватели.
Лев Гудков: Историки… Какая история была?! До сих пор не можем расхлебаться. Это та еще была история! Это не Бахтин, который сидел, высланный, не Вавилов убитый. Для утешения этого, конечно, навешивали всякие бляшки: «Мы – совесть, мы – соль», — и прочее, прочее.
Иначе говоря, для социологического определения этого нужно представить себе, на чем держался авторитет, каковы основания для авторитета, для влияния той группы, которая называла себя интеллигенцией. Будет ли она выступать от имени профессионального знания либо она будет претендовать на учительскую роль. Часто роль не признаваемая, между прочим. Либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения. Либо на диктат, на право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, что окончательно. Сейчас при централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс не развивающегося общества.
Будет ли она выступать от имени профессионального знания либо она будет претендовать на учительскую роль. Часто роль не признаваемая, между прочим. Либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения. Либо на диктат, на право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, что окончательно. Сейчас при централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс не развивающегося общества.
Александр Дмитриев: Я хотел бы продолжить и поспорить. Мне кажется, что перед современными профессионалами интеллектуального труда, а особенно верхней его части, ну, людей, которые этим занимаются более-менее, включая здесь присутствующих, профессионально, всерьез и адекватно, все-таки встает задача взаимодействия обратных связей, вопрос об институтах, который здесь тоже есть. Я к тому, что есть ведь та среда, которая, в принципе, тоже занимается профессионально умственным трудом, как преподаватель средней школы, учителя истории или те, кого презрительно именуют «офисным планктоном». И люди – наследники советской технической интеллигенции, которые живут и отчасти продолжают в тех же провинциальных офисах или вполне себе не в офисах… отчасти прежней как бы жизнью и овладевают новыми практиками, опять же изменившимися за эти 20 лет. Так вот меня, как историка-профессионала, интересует то, чтобы эти учителя истории преподавали в школах по учебникам, созданным или в 1990-ые, или в 2000-ые годы, но не по учебникам господина Филиппова или госпожи Нарочницкой.
Я к тому, что есть ведь та среда, которая, в принципе, тоже занимается профессионально умственным трудом, как преподаватель средней школы, учителя истории или те, кого презрительно именуют «офисным планктоном». И люди – наследники советской технической интеллигенции, которые живут и отчасти продолжают в тех же провинциальных офисах или вполне себе не в офисах… отчасти прежней как бы жизнью и овладевают новыми практиками, опять же изменившимися за эти 20 лет. Так вот меня, как историка-профессионала, интересует то, чтобы эти учителя истории преподавали в школах по учебникам, созданным или в 1990-ые, или в 2000-ые годы, но не по учебникам господина Филиппова или госпожи Нарочницкой.
И вопрос об ответственности: как мы, в том числе и как профессионалы, люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, можем, или должны, взаимодействовать с вот этими гораздо более широкими слоями нового среднего класса, или постсоветского среднего класса, в том числе и людей, которые работают в сферах образования, социального управления, в том числе и науки, и так далее. То есть поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.
То есть поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.
Лев Гудков: Ну, ответственность должна быть рублем выражена. Почему обязательно такая? Рынок – очень сложное устройство. Он предполагает дифференциацию институтов, систему обменов. Вот вы говорили о товаре. Почему о товаре? Вообще говоря, рынок – это удивительное изобретение. Это механизм для понимания, обмена, коммуникации, оценивания и прочее. Не может быть там товара, если нет его производителя. Кто-то является производителем, кто-то – потребителем. Мы все вступаем в эти отношения. Но именно сложность этого устройства, способность переводить одну ценность на другую и делает гибким сложно устроенное общество в этом смысле. Что значит – товар? Ну, конечно, я произвожу некоторые профессиональные знания. Но если не будет общества, которое заинтересовано в этом знании, то куда я денусь со своими знаниями?.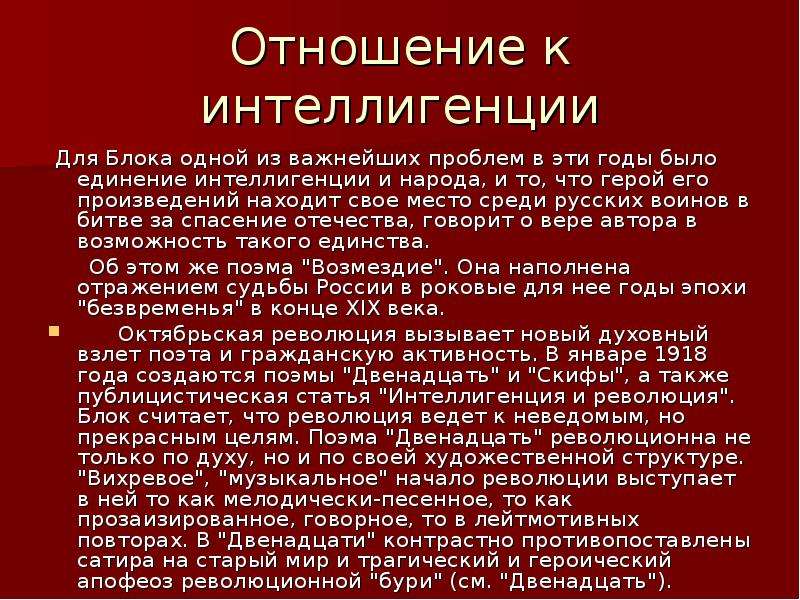 . Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.
. Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.
Елена Фанайлова: Раз уж Татьяна эту дискуссию затеяла, отвечайте, Татьяна Щербина.
Татьяна Щербина: Это все правильно, что вы говорите. Просто разница в том, что для вас, ну, не для вас лично, а вообще для здешних людей, рынок – это нечто новое, поэтому есть все эти разговоры. А скажем, для, извиняюсь, того же француза это настолько вещь привычная, и уже во многих поколениях, он просто об этом не будет думать, не будет говорить. Ему такие категории не придут в голову.
Вот я помню, например, что я когда-то брала для газеты «КоммерсантЪ» интервью у Люка Бессона, который приезжал сюда. И был обязательный наказ спросить его, где он берет деньги на свои фильмы. А это речь о второй половине 1990-ых годов. Главный вопрос. Ну, я задаю этот вопрос. И на меня этот Люк Бессон смотрит просто как на ненормальную. Он говорит: «Что вы все взбесились тут? Вот сколько я уже интервью даю, и все спрашивают меня про деньги. Да деньги-то – это вообще не вопрос. Главное, чтобы была идея интересная». Есть у тебя интересная идея – так деньги тебе будут еще и предлагать, а ты будешь выбирать. Это вообще не вопрос. Ну как же, вот рынок, товар, деньги… Нет никакого… то есть это есть, но это уже само собой функционирует. Так что речь идет о том, что здесь становится в новинку.
Да деньги-то – это вообще не вопрос. Главное, чтобы была идея интересная». Есть у тебя интересная идея – так деньги тебе будут еще и предлагать, а ты будешь выбирать. Это вообще не вопрос. Ну как же, вот рынок, товар, деньги… Нет никакого… то есть это есть, но это уже само собой функционирует. Так что речь идет о том, что здесь становится в новинку.
Александр Иванов: Твоя интеллектуальная позиция. В тот момент, когда ты говоришь о том, что происходит здесь, ты сама где находишься – здесь или там?
Татьяна Щербина: Ты понимаешь, я нахожусь и здесь, и там. Конечно, мое сознание, оно не российское. То есть – все, остальное меня вообще мало волнует. Я воспринимаю весь мир в целом…
Александр Иванов: Хорошо. У тебя есть какая-то генеалогия интеллектуальная, на которую ты можешь опереться здесь, чтобы говорить «а здесь» как о своем? Или для тебя «здесь» — это плохие автомобили, люди, которые плохо понимают рынок и так далее? Это все относится к понятию локального, местного, то есть хренового.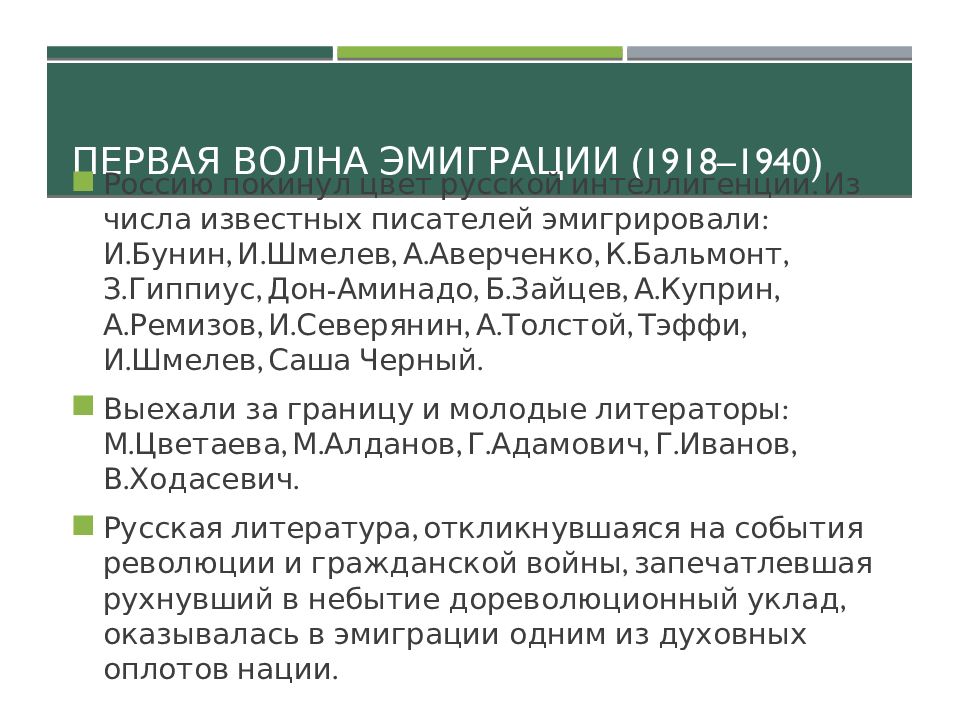
Татьяна Щербина: Нет. Почему? Автомобили уже хорошие, но только не российские.
Александр Иванов: А вот то, что не локальное, не местное, не хреновое, относится к французскому и так далее. Или все-таки по-другому?
Елена Фанайлова: А можно уже Сергей Николаевич Ениколопов…
Сергей Ениколопов: Я сказал о том, что элита похожа на номенклатуру, но это внешняя похожесть. На самом деле, если серьезно говорить об элитах, то их же много. Мы все время подразумеваем какую-то государственную структуру, политическую элиту, так сказать, тогда она похожа на номенклатуру. Но отлично знаем сами, что есть элита в нашем научном сообществе, она не всегда совпадает со структурным положением. Не каждый академик является элитарным. Огромное количество людей, даже и в Саранске находясь, были интеллектуальной элитой. Поэтому в каждой вещи, в том числе даже в этом рабочем классе, тоже были элитарные рабочие. И все знали, кто они такие, вот на их производстве. Другое дело, что их слава была не на всю страну.
И все знали, кто они такие, вот на их производстве. Другое дело, что их слава была не на всю страну.
И вот здесь возникает одна очень, на мой взгляд, важная проблема для современной, вот той элиты, о которой говорилось раньше. Ей очень нравится, чтобы и все остальные считали бы себя быдлом, лузерами, тогда они самоутверждаются. Притом, что у многих из них очень сложная саморефлексия. Вчера он был научным сотрудником, потом стал богатым человеком. Какая-то часть его друзей отпала, и он знает, что они его презирают, несмотря на его совершенно замечательную «иномарку». И живет с этой двойной вещью. Я знаю очень многих богатых людей, которые говорили, что «я потерял дружеский круг и иногда выныриваю к старым приятелям, если они принимают, поговорить о чем-то умном, потому что в своем кругу я говорю о другом». А вот эта потеря иногда ощущается очень остро, потому что выясняется, что первый круг его не принимает. Притом это, на самом деле, не самые-то лузеры. Они, действительно, получили возможность общаться со своими иностранными коллегами, выезжать на конференции, печататься в разных журналах, не только ВАКовских, а индексированных по-настоящему, с цитированием. И они не чувствуют, что им очень нужен этот собеседник, который, с их точки зрения… Лузер, он вообще про науку знает 20-летней давности.
И они не чувствуют, что им очень нужен этот собеседник, который, с их точки зрения… Лузер, он вообще про науку знает 20-летней давности.
И вы знаете, вот для меня было очень серьезным изменением… Так получилось, что из-за разного рода катастроф, которые были в конце 1980-ых годов, я стал посещать ЦК партии. И застал старых инструкторов отдела науки, которые были заказчиками, и точно знали, что я для них интеллектуал, который привозит сведения или обобщает их и анализирует про Чернобыль, про Армению и так далее. А потом, за короткий период произошел новый… Пришли очень милые люди с почти общей биографией, но они вдруг стали похлопывать меня по плечу и говорить: «Мы ученые». И вот, вы знаете, я поймал себя на том, что старый мне больше нравился. Он был заказчиком, я – товар, или производитель товара. Притом, что возникало некое амикошонство. Он говорил: «Мы с вами ученые, поэтому ваши идеи меня вообще не интересуют. У меня есть свои взгляды на это».
Вот структурирование разного рода элит, оно очень существенно. Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. А сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые, на самом деле, являются абсолютно интеллектуалами. И размытость заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, является ли вот этот человек, с которым я беседую, элитой.
Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. А сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые, на самом деле, являются абсолютно интеллектуалами. И размытость заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, является ли вот этот человек, с которым я беседую, элитой.
Борис Кагарлицкий: Вы знаете, мне кажется, что Люк Бессон немножко обманул Татьяну, немножко полицемерил, скажем так. Ну, как бывает, действительно, когда общаешься с варварами, так сказать, с людьми из какой-то дикой страны, можно немножко сказать неправду, если уж по этой логике рассуждать. На самом деле, конечно, любой из нас прекрасно знает, каких трудов стоит, например, поддержание в жизнеспособном состоянии издательства интеллектуальной литературы на Западе. Другое дело, что все-таки на Западе существует определенная система институциональной поддержки подобного рода вещей.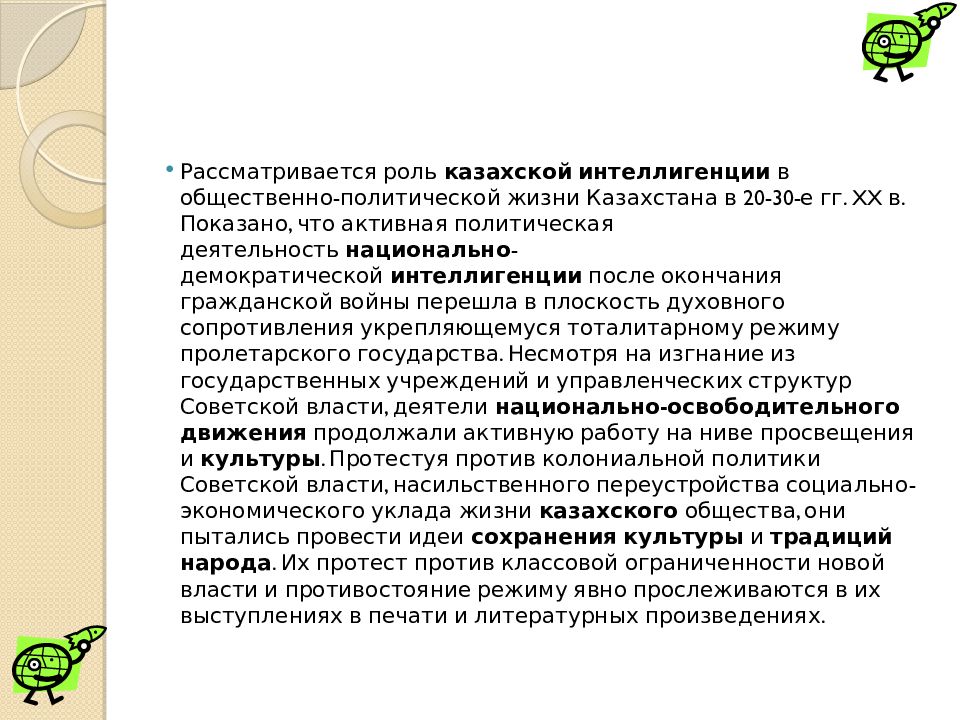 Причем, подчеркиваю, принципиально антирыночная, не просто не рыночная, а антирыночная. И вот эти восторги наши… и не только наши, кстати, глобальные в значительной мере, по поводу того, что рынок сам решит все проблемы, они, в общем, честно говоря, меня, например, пугают. Потому что рынок сам не решает всех проблем автоматически.
Причем, подчеркиваю, принципиально антирыночная, не просто не рыночная, а антирыночная. И вот эти восторги наши… и не только наши, кстати, глобальные в значительной мере, по поводу того, что рынок сам решит все проблемы, они, в общем, честно говоря, меня, например, пугают. Потому что рынок сам не решает всех проблем автоматически.
Для того чтобы все это работало, необходимы определенные сознательные, в том числе, как это ни парадоксально, интеллектуальные усилия. То есть, иными словами, необходима интеллектуальная среда, которая противостоит спросу рынка. Это принципиальная позиция. Кстати говоря, которая объединяет как русского интеллигента, так и левых интеллектуалов на Западе. У них в этом смысле практически идентичные позиции. Но русский интеллигент еще традиционно это окрашивал в морально-идеологические тона, в то время как западный интеллектуал, если он и говорил в идеологических тонах, то он эту идеологию не привязывал к своему существованию как интеллигента. Он окрашивал свою идеологию в тона, так сказать, классовой борьбы.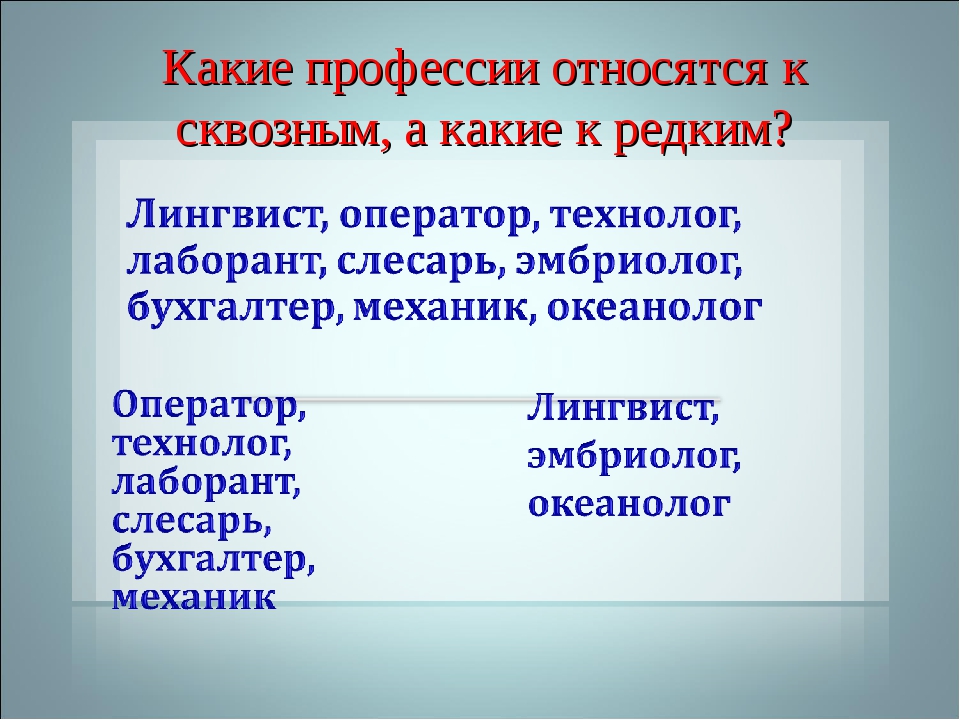 Как Грамши говори про органического интеллектуала, то есть про того, кто является как бы медиумом класса. В этом принципиальное отличие. И в этом смысле как раз мне вот тип органического интеллектуала западного типа гораздо ближе.
Как Грамши говори про органического интеллектуала, то есть про того, кто является как бы медиумом класса. В этом принципиальное отличие. И в этом смысле как раз мне вот тип органического интеллектуала западного типа гораздо ближе.
Лев Гудков: Я просто хотел бы немножко определить понятие элиты. Я абсолютно согласен с тем, что говорил мой коллега профессор Ениколопов. Говорить об этой элите с определенным артиклем можно только в централизованном и авторитарном государстве. Для развитого общества должно быть много элит. Ведь что такое элита? Элита – это совокупность людей, или группа, демонстрирующих наивысшие достижения в своей области. И именно на этом держится их авторитет. Соответственно, это предполагает очень развитую систему. Конечно, она не должна быть рыночной. Там должна быть и благотворительность, и ресурсные вещи, но они могут появиться только в очень сложно организованном обществе. В советское время никаких фондов поддержки не было, и не могло быть.
Татьяна Щербина: Тут что-то все ко мне апеллировали, но больше всего Саша Иванов, поэтому я ему и отвечаю. Вот он спрашивал, где я, мое-то сознание российское или западное, или какое. Ну, сейчас, как известно, эпоха глобализации, но многим не нравится просто либо само слово, либо какие-то составляющие этого явления. Но этот процесс происходит. Поэтому вот мое сознание такое, скажем. Ну, на мне, например, ничего нет российского производства, вообще ничего. Машина, на которой я езжу, она тоже не российского производства. То есть вот это какое-то сознание, которое сейчас очень укрепилось: «Мы самые лучшие, самые главные…». Ну, собственно, сейчас. И советское было такое же сознание: «У нас все должно быть». А сейчас: «Мы самые богатые. Мы – самая дорогая страна в мире, и как мы этим гордимся».
Елена Фанайлова: Мы еще и выигрываем теперь на различных чемпионатах. И я, признаться, ужасно этому рада.
Татьяна Щербина: Ну, хорошо. Просто есть сейчас… поскольку мир взаимодействует между собой в пределах часа или нескольких часов лета на самолете, Интернета мгновенного и так далее, скажем, такие-то страны производят автомобили. А это уже не страны, потому что это уже не поймешь. «Рено» и «Ниссан» — это один производитель, а это японская, а это французская. Это все международные какие-то… Вот есть люди, которые умеют производить хороший товар, который во всем мире продается, всем нужен, все довольны. Чудесно! Зачем всем-то лезть вон из кожи и производить хотя бы что-нибудь. Не нужно. А другие умеют делать то-то. А вот есть какие-то, скажем, отдельные, может быть, гениальные ученые, или выдающиеся ученые, один может быть российским, другой может быть американским. Какая разница?!
Просто есть сейчас… поскольку мир взаимодействует между собой в пределах часа или нескольких часов лета на самолете, Интернета мгновенного и так далее, скажем, такие-то страны производят автомобили. А это уже не страны, потому что это уже не поймешь. «Рено» и «Ниссан» — это один производитель, а это японская, а это французская. Это все международные какие-то… Вот есть люди, которые умеют производить хороший товар, который во всем мире продается, всем нужен, все довольны. Чудесно! Зачем всем-то лезть вон из кожи и производить хотя бы что-нибудь. Не нужно. А другие умеют делать то-то. А вот есть какие-то, скажем, отдельные, может быть, гениальные ученые, или выдающиеся ученые, один может быть российским, другой может быть американским. Какая разница?!
То есть все-таки у меня есть абсолютное чувство, это именно как чувство, что мы живем в одном мире, на одной планете. И просто я здесь родилась, мой родной язык русский. И более того, когда я жила во Франции… а поскольку я жила во Франции, то я это очень хорошо почувствовала. Когда просто приедешь, этого не почувствуешь. Что как бы я ни знала язык, какую-то историю Франции, все мои какие-то вещи тонкого плана, ну, какие-то микрореакции, какие-то рефлексы, ну, не знаю что, они, конечно, все российские. Поэтому когда я там жила, я это очень хорошо ощутила. Поэтому, да, я здесь укоренена как бы. И вообще, когда я жила во Франции, были просто смешные вещи. Приезжал казацкий хор, на который никогда в жизни я не пойду в Москве, а я ходила. Какие-то русские вечеринки… Да просто никогда я бы не стала этого слушать. А я ходила, потому что мне этого не хватало. И я просила: «Привезите мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу из России – по-русски читать». Потому что я читала только по-французски. Какая мне разница – по-русски или по-французски. То есть когда мне привезли книгу на русском языке, то я эту книгу даже запомнила, потому что это было такое счастье — читать по-русски. Это такие вещи, ну, они естественные, и они для каждого… В этом смысле русский или будь ты французом — это тоже будет.
Когда просто приедешь, этого не почувствуешь. Что как бы я ни знала язык, какую-то историю Франции, все мои какие-то вещи тонкого плана, ну, какие-то микрореакции, какие-то рефлексы, ну, не знаю что, они, конечно, все российские. Поэтому когда я там жила, я это очень хорошо ощутила. Поэтому, да, я здесь укоренена как бы. И вообще, когда я жила во Франции, были просто смешные вещи. Приезжал казацкий хор, на который никогда в жизни я не пойду в Москве, а я ходила. Какие-то русские вечеринки… Да просто никогда я бы не стала этого слушать. А я ходила, потому что мне этого не хватало. И я просила: «Привезите мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу из России – по-русски читать». Потому что я читала только по-французски. Какая мне разница – по-русски или по-французски. То есть когда мне привезли книгу на русском языке, то я эту книгу даже запомнила, потому что это было такое счастье — читать по-русски. Это такие вещи, ну, они естественные, и они для каждого… В этом смысле русский или будь ты французом — это тоже будет. Где бы ты ни жил и что бы ты ни делал.
Где бы ты ни жил и что бы ты ни делал.
Но мир, вот эта маленькая планетка в огромном космосе — ничего мы про это мирозданье не знаем, пытаемся узнать что-то. Вернее, уже узнали, но еще недостаточно. И чего ж тут надувать щеки-то?
Александр Дмитриев: Мне все-таки хотелось бы поставить вопрос об интеллигенции в социальном плане, и опять-таки в более широкой ее массе, и отчасти, может быть, переадресовать и свою реплику, и свой вопрос Ирине Ясиной. Меня всерьез заботит проблема обратной связи: для кого мы все, или я конкретно, работаем? Вот у Цветаевой было, правда, вполне интеллигентно-презрительное: читатели газет. Ну, скажем так, класс читателей советских «толстых» журналов или даже, быть может, центральных газет ушел. И кто те люди, которые читают ту продукцию, которую сидящие здесь, так или иначе, производят? Что за среда, которая приезжает на разные региональные журналистские слеты? Наверное, Ирина ее лучше знает. Вот у меня есть довольно серьезная проблема – проблема обратной связи, которая в силу, так сказать, более проще и более пирамидально устроенной структуры советского общества была отчасти более понятна. Наше нынешнее общество гораздо более размыто. Но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы «недомодерное», недоразвитое и во что-то не входящее. Оно обретает очень не нравящиеся здесь сидящим, а с другой стороны, вполне симпатичные контуры. Но вот какое оно?.. Каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?..
Наше нынешнее общество гораздо более размыто. Но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы «недомодерное», недоразвитое и во что-то не входящее. Оно обретает очень не нравящиеся здесь сидящим, а с другой стороны, вполне симпатичные контуры. Но вот какое оно?.. Каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?..
Ирина Ясина: Спасибо за этот поворот темы. Потому что проблема обратной связи, она, конечно, мучает каждого из нас, и наверное, вот тех, которые называли себя интеллигентами раньше — и в Советском Союзе, и еще в царской России, всякие народники — вот эта вся публика, и разночинцы тоже. Вот проблема обратной связи – нужно ли то образование и то просвещение, которые ты пытаешься нести или навязывать? Можно по-разному сказать, правда? Оно нужно или нет? Или вот им хорошо в том состоянии, в каком они находятся, этим самым людям?
Кстати сказать, наше телевидение сейчас удивительным образом решило для себя этот вопрос. Наши телевизионные начальники, будучи сами интеллектуальными людьми достаточно, они говорят, что народу все равно, народу это нравится. И каким-то образом они решили это, и ни на чем не основываются, на самом деле. А если народу дать попробовать другое… Вы попробуйте, дайте, может быть, им тоже понравится, этим самым людям, за которых вы решили, что им нужны вот эти танцы и шутки ниже пояса исключительно 24 часа в сутки. Ну, не важно.
Наши телевизионные начальники, будучи сами интеллектуальными людьми достаточно, они говорят, что народу все равно, народу это нравится. И каким-то образом они решили это, и ни на чем не основываются, на самом деле. А если народу дать попробовать другое… Вы попробуйте, дайте, может быть, им тоже понравится, этим самым людям, за которых вы решили, что им нужны вот эти танцы и шутки ниже пояса исключительно 24 часа в сутки. Ну, не важно.
Проблема обратной связи. Вот люди приезжают очень разные. И вдруг возникает… вот тут я согласна с коллегой Гудковым и коллегой Ениколоповым, что, действительно, никогда не знаешь, кому вдруг, вот той элите, понадобится то, что ты говоришь. А вдруг появляется мальчик из рабочих, а вдруг появляется девочка-журналистка, а потом какой-то высокоинтеллектуальный человек по своим семейным корням из Петербурга говорит: «Боже мой! Что такое 1968 год? Мы никогда об этом не говорили в нашей семье. И кому это интересно?». А мы говорим о том, что, да, те семеро, которые вышли на Красную площадь, спасли честь поколения, и для нас это важно. И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 1969 году приехала в Чехословакию, и будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд – это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно, и не будет, я его не придумала, он реальный. Просто он хорошо известен, и не хочу его называть.
И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 1969 году приехала в Чехословакию, и будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд – это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно, и не будет, я его не придумала, он реальный. Просто он хорошо известен, и не хочу его называть.
А с другой стороны, смотрите, мы делаем некий проект в тарусской районной больнице. Об этом слышали, наверное, все. Вот мы воевали, когда там снимали главную врачиху, сами за себя, вот эти интеллигенты из Москвы. Максим Осипов, я, еще кто-то. Никто из жителей города Тарусы не вышел к больнице с плакатом: «Верните нам главную врачиху! Оставьте этот замечательный кардиологический центр!». В котором они будут лечиться, не мы, мы живем в Москве. Понимаете, они будут лечиться, но им все равно. Ноль обратной связи абсолютно. Кроме 20 человек, которые работают в Протвино, в Институте космических исследований, но живут в Тарусе.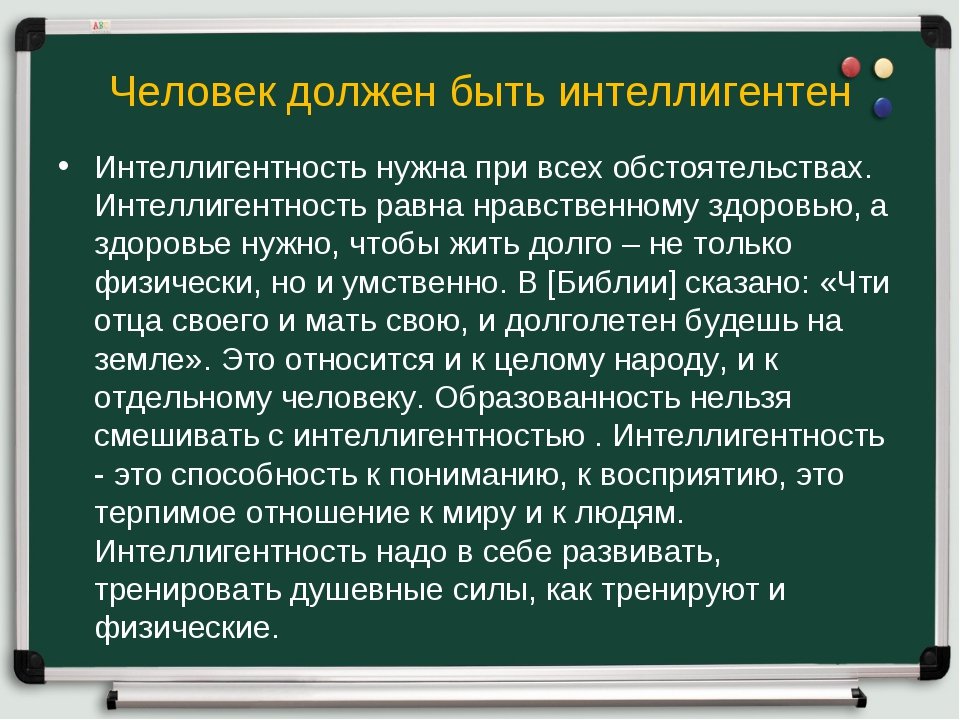 Но это же люди интеллектуального труда опять же. То есть каким-то образом это оказывается связанным. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что «пипл схавает» (терпеть не могу этого выражения, но оно никак нельзя лучше), их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. Вот, действительно, понимаете, им все равно. Мы приехали на субботник туда, в их тарусскую больницу, сажать цветочки. Они смотрели на нас, проходя мимо по улице, как на больных. «Зачем они приехали? Что они делают? Кому это нужно?». То есть ничего не нужно, получается. Ну что теперь, не делать? Это неправильно.
Но это же люди интеллектуального труда опять же. То есть каким-то образом это оказывается связанным. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что «пипл схавает» (терпеть не могу этого выражения, но оно никак нельзя лучше), их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. Вот, действительно, понимаете, им все равно. Мы приехали на субботник туда, в их тарусскую больницу, сажать цветочки. Они смотрели на нас, проходя мимо по улице, как на больных. «Зачем они приехали? Что они делают? Кому это нужно?». То есть ничего не нужно, получается. Ну что теперь, не делать? Это неправильно.
И поэтому когда вот вы поднимаете эту тему… Я для себя ответила на этот вопрос. Я не для них это делаю, не для людей. Я это делаю для себя. Мне очень хорошо в процессе. Более того, мне хорошо делать это с теми людьми, с которыми я это делаю вместе. И больше ничто нас не объединяет так, как это совместное дело. Наверное, я плохая, я вот не думаю постоянно о народе. Я не думаю. Может быть, им это нужно, может быть, не нужно. Да Бог с ними. Мне хорошо в этом процессе. Мне хорошо этой благотворительностью заниматься. Мне это дико нравится.
Наверное, я плохая, я вот не думаю постоянно о народе. Я не думаю. Может быть, им это нужно, может быть, не нужно. Да Бог с ними. Мне хорошо в этом процессе. Мне хорошо этой благотворительностью заниматься. Мне это дико нравится.
Александр Иванов: Я очень признателен Ире, потому что она замкнула тему в самую точку. То есть я по-прежнему стою на своем. Я утверждаю, что интеллигенция – это не предметное понятие. И многие со мной согласятся. Потому что есть же у нас, в конце концов, ощущение какого-то интеллектуального, интеллигентского, какого угодно обаяния, исходящего от человека совершенно разного социального слоя и так далее. Поэтому для меня это не предметное и не социологическое понятие. Социологи сами как бы… вот уважаемый коллега продемонстрировал, на мой взгляд, то, что это понятие ускользает от его инструментария, хотя он его использует, но оно все равно от него ускользает. Ира замечательно замкнула тему и ответила на главный вопрос, который мы обсуждаем.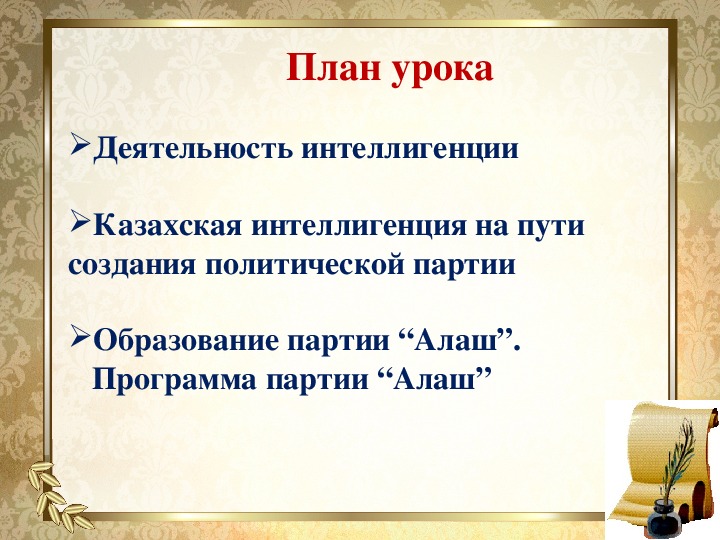 То есть в каком-то смысле думать самому – это невероятное благо, невероятная этическая ценность.
То есть в каком-то смысле думать самому – это невероятное благо, невероятная этическая ценность.
И в этом смысле я хочу сказать о Таниной позиции. Думать самому – это быть европейцем. Не быть похожим на европейца, а быть им на самом деле. При этом ты можешь думать по-китайски, по-русски, да как угодно, но ни в коем случае не думать, что быть европейцем – это быть вот в этом вечно предметном мире некоторых знаков европейскости. В этом смысле русские интеллигенты, например, XIX века были европейцами, когда они, как Гумилев, ехали в Африку, как Пржевальский – в Центральную Азию. Вот там европейский дух живет, в этом устремлении в сторону от Европы.
И в этом смысле я согласен с коллегой. В советском космосе этот европейский дух, как ни странно, присутствовал едва ли не в большей степени, я имею в виду, в советском интеллигентском пространстве, нежели в современном ново- и постноворусском очень часто. Потому что страна, на мой взгляд, — может быть, сейчас какие-то перемены произойдут, — очень провинциализируется в этом смысле. Она перестает быть открытой и по-настоящему устремленной куда-то. Я это связываю с одной из основных драм ХХ века. Я не Путин, а не скажу, что эта драма – гибель СССР. Это гибель того, что я называю советским идеализмом. Было два великих идеализма в мире вообще. Это немецкий идеализм, который открыт Лессингом, Шиллером, Гёте и так далее. Это просто ощущение того, что возможен другой, лучший мир, он возможен. И был советский идеализм. И наши родители, к какому бы слою они ни относились, это могли быть родители либеральных взглядов или более консервативных, они были идеалистами. И вот этот дух идеализма исчезающий, он как раз… может быть, меланхолия по этому исчезновению может нас объединить и сказать, что мы по-прежнему… если мы проживаем эту меланхолию, то мы в каком-то смысле относимся к этой традиции идеализма.
Она перестает быть открытой и по-настоящему устремленной куда-то. Я это связываю с одной из основных драм ХХ века. Я не Путин, а не скажу, что эта драма – гибель СССР. Это гибель того, что я называю советским идеализмом. Было два великих идеализма в мире вообще. Это немецкий идеализм, который открыт Лессингом, Шиллером, Гёте и так далее. Это просто ощущение того, что возможен другой, лучший мир, он возможен. И был советский идеализм. И наши родители, к какому бы слою они ни относились, это могли быть родители либеральных взглядов или более консервативных, они были идеалистами. И вот этот дух идеализма исчезающий, он как раз… может быть, меланхолия по этому исчезновению может нас объединить и сказать, что мы по-прежнему… если мы проживаем эту меланхолию, то мы в каком-то смысле относимся к этой традиции идеализма.
Слово «Питер» неинтеллигентное, я не переношу его — Российская газета
К числу потерь, пережитых страной за минувшее столетие и чувствительно повлиявших на состояние российского общества, принято относить и русскую интеллигенцию. Дореволюционные учителя, доценты, профессора, врачи, священники, инженеры, офицеры, юристы, чиновники… Кто-то из них как классово чуждый элемент был ликвидирован в период красного террора. Кто-то поднялся на борт «философского парохода». Кто-то стал жертвой сталинских чисток. А кто-то проделал глубокую эволюцию.
Дореволюционные учителя, доценты, профессора, врачи, священники, инженеры, офицеры, юристы, чиновники… Кто-то из них как классово чуждый элемент был ликвидирован в период красного террора. Кто-то поднялся на борт «философского парохода». Кто-то стал жертвой сталинских чисток. А кто-то проделал глубокую эволюцию.
Эту эволюцию особенно впечатляюще воплотил собой автор крамольных «Несвоевременных мыслей», вскоре перековавшийся в зачинателя ленинианы и отца крылатой фразы «если враг не сдается, его уничтожают». Такую же эволюцию, только в обратную сторону, проделал советский интеллигент — от страстного требования «убрать Ленина с денег» до сжигания партбилета в прямом эфире. Сегодня этот вечно мятущийся персонаж выражает «неоднозначное отношение» к репрессиям и величает Сталина «эффективным менеджером».
Мы действительно потеряли интеллигенцию? Обсудим тему с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Определяющим признаком интеллигента является профессия
Слова «интеллигент» и «интеллигенция» вошли в ряд европейских языков исключительно как русские. Во всем мире для обозначения людей с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением оперируют понятием «интеллектуалы». Может, и нам стоит придерживаться мировых стандартов и не нагружать это понятие дополнительными смысловыми опциями?
Во всем мире для обозначения людей с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением оперируют понятием «интеллектуалы». Может, и нам стоит придерживаться мировых стандартов и не нагружать это понятие дополнительными смысловыми опциями?
Михаил Пиотровский: Я думаю, что понятие «интеллигенция» в значительной степени выдумано. Недаром же его нет нигде в мире. Хотя в какие-то моменты истории интеллигенция в России существует. Она существует тогда, когда есть высокое почтение к таким профессиям, как учитель, врач, преподаватель университета, ученый, журналист… Но меняется время, и эти профессии теряют уважение общества, а их представители — самоуважение. Вообще слово «интеллигенция» я не очень употребляю. Так же как слово «патриотизм».
А что же такое «петербургская интеллигенция»? В ее-то реальное существование вы, коренной петербуржец и почетный гражданин Петербурга, верите или нет?
Михаил Пиотровский: Верю. Потому что действительно существуют и «петербургский» склад характера, и «петербургская» манера поведения, и «петербургская» вежливость. И это не лакейская вежливость, а вежливость, за которой некая сила, уверенность в себе. Это готовность слышать другие мнения. Это такая мягкость, за которой угадывается внутренний стержень. Мне кажется, что в результате революции и переезда столицы в Москву Петербург стал хранителем лучших традиций царской России, а не только традиций русской интеллигенции. Его образу стала присуща некая мягкость. Дореволюционный Петербург был жесткий, мерзкий, бюрократический. Это все ушло. И остался Петербург Серебряного века, Петербург времен Петербургского университета.
Тому Петербургу, о котором вы сейчас говорите и который у вас связывается с понятием «интеллигентность», решительно не идет слово «Питер». Вы как к нему относитесь?
Михаил Пиотровский: Я не переношу это слово. Потому что оно неинтеллигентное. Оно всегда употреблялось как простонародное. Потом стало употребляться как литературное. Потом опять вернуло себе простонародный оттенок. А теперь даже приличные люди говорят «Питер».
Считается, что слово «интеллигенция» в социальном его значении первым употребил Петр Бобырыкин. Он определял интеллигенцию как лиц «высокой умственной и этической культуры», а не как «работников умственного труда». По его мнению, интеллигенция в России — это чисто русский морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся люди разных профессиональных групп, принадлежащие к разным политическим движениям, но имеющие общую духовно-нравственную основу. Вы согласны с такой трактовкой этого понятия?
Михаил Пиотровский: Мне все-таки представляется, что определяющим признаком интеллигента является профессия. А наличие совести у врача или, скажем, ученого — это само собой.
Интеллигенция в конечном итоге перехитрила советскую власть
Символом уничтожения русской интеллигенции стал «философский пароход». Судьба тех, кто был выслан или сам уехал из страны, и тех, кто остался, трагична, хотя и по-разному. Из дневника Всеволода Иванова, ставшего «правильным» писателем: «Писал переломанными руками, соображал истоптанным мозгом». Но, если позволительно такое сравнение, кому, на ваш взгляд, больше «повезло» — тем, кто уехал, или тем, кто остался?
Михаил Пиотровский: Я думаю, по-своему повезло и тем и другим. Первые обманули судьбу, вторые — власть. Эмигранты первой волны, оказавшись в Европе, сохранили память о России, о русских, проявили себя патриотами в годы Второй мировой войны. Они сохранили русскую культуру, русскую литературу, русский язык. Причем сохранили сознательно. Эмиграция обострила в них желание быть хранителями русского культурного наследия. Но и те, кто остались в советской России, тоже, хотя и бессознательно, хранили традиции русской культуры, когда, пользуясь для обмана цензуры эзоповым языком или иными ухищрениями, создавали прекрасные произведения. Потом цензуру отменили, но достижений духовной культуры, вопреки ожиданиям, не прибавилось. Появилась даже теория, что шедевры создаются только в обстановке притеснения. На самом же деле многие мастера умели наряду с госзаказом, а иногда даже в рамках его, писать талантливые романы, снимать превосходные фильмы.
Вы согласны, что приспособленчество было свойственно советской интеллигенции как никакому другому социальному слою и что в этом ей не было равных?
Михаил Пиотровский: Не согласен. Просто в советское время между властью и интеллигенцией шла такая игра: кто кого перехитрит. Приспосабливались все. Потому что всем нужно жить. Но можно жить на сто процентов так, как от тебя требуют, и на большее не претендовать. А можно жить и писать книги. Или жить и учить студентов. Или просто высказываться не всегда прямо, но так, чтобы доходило до тех, кто понимает. Да, есть власть. От нее надо получить возможность существования. Иногда — хорошего существования. Но при этом есть и кое-что поважнее. Можно жить в ладу с властью, но при этом честно делать свое дело. У одних это получалось, у других — нет. Есть множество интеллигентных профессий. Ты можешь быть учителем, инженером, врачом… Это служба, и тебе за нее платят. А дальше уже от тебя самого зависит, сумеешь ли ты реализовать себя. По-моему, в России интеллигенция в конечном итоге перехитрила советскую власть.
Интеллигент — это определенный тип воспитания
В своем знаменитом эссе «Образованщина» Солженицын язвительно критиковал советскую интеллигенцию, сравнивая ее с дореволюционной, причем в пользу последней. С тех пор слово «образованщина» обозначает не что иное, как только видимость образования, видимость культуры, попросту говоря — ложную интеллигентность. А для вас в чем различие между интеллигентностью и «образованщиной»?
Михаил Пиотровский: Я думаю, Солженицын распространял термин «образованщина» лишь на определенную часть советской интеллигенции, которую власть — подчас не без оснований — называла «гнилой интеллигенцией». Солженицын ощущал свою полную непричастность к этой интеллигенции. Конечно, интеллигент — это человек образованный. Но иметь высшее образование и быть действительно образованным, культурным человеком — это не одно и то же. Солженицын это понимал, потому и ополчился на «образованщину».
Интеллигент — это определенный тип мышления? Определенный тип чувствования?
Михаил Пиотровский: Я думаю, это все-таки определенный тип воспитания. Для интеллигента существует свод правил и приличий. Начиная с речи. О чем можно говорить громко, а о чем вполголоса. Что можно сказать человеку в лицо, а что нельзя. Или, например, что считать доносом. Публичная критика — это донос или нет? Журналистское расследование — это донос или нет? Если ты нарушаешь некие негласные установления, ты тем самым предаешь свое воспитание и образование. Интеллигент обязан соответствовать тому, что в него заложили родители, школа, университет. У него должна быть система внутренних тормозов.
Интеллигенция — это исключительно русский феномен?
Михаил Пиотровский: Похоже, что да. Хотя, может, нам просто всегда кажется, что у нас «особенная стать», что мы во всем единственны и неповторимы.
Можно ли сказать, что отличительная особенность интеллигенции — независимость от партийных, идеологических, религиозных установок?
Михаил Пиотровский: Я думаю, что да, хотя с неким ограничением, конечно. То есть ты можешь зависеть от своей религии, если ты верующий, но при этом оставаться интеллигентом, этого никто у тебя не отнимет.
Почему народ не любит интеллигенцию?
Михаил Пиотровский: Народ вообще много чего не любит. Например, терпеть не может современное искусство. Оно слишком сложно для него. Я думаю, что с интеллигенцией то же самое. Она слишком сложные для всеобщего понимания вещи говорит. Но в тех случаях, когда народ понимает сложное, он относится к интеллигенции хорошо.
«Властители дум» сегодня не нужны
По данным фонда «Общественное мнение», российские граждане отмечают сокращение числа тех, кого раньше, не экономя на пафосе, называли «властителями дум». Моральные авторитеты уходят со сцены? Общество их не востребует?
Михаил Пиотровский: Сегодня странно было бы назвать кого-то «властителем дум». Вот Лев Толстой — да, он был, безусловно, «властителем дум». При этом то, чему он учил, большинством не разделялось.
Современное российское общество пребывает в брожении, универсальных, разделяемых всеми идей, объединяющих ценностей большой дефицит. Может, поэтому и нет общепризнанных авторитетов?
Михаил Пиотровский: И слава богу, что их нет. Не нужны они. Сегодня опасность распространения тоталитарного мышления гораздо выше, чем была в XIX веке.
Сохранять себя ради сохранения культурной традиции — в этом высокий смысл интеллигентского конформизма
Почему интеллигент, как его понимают в России, — это обязательно гражданская позиция, причем публично выражаемая? Кто не имеет гражданской позиции или не заявляет о ней, тот вроде и не интеллигент вовсе.
Михаил Пиотровский: Я думаю, это идет из XIX века, причем «довеховского» периода. Гражданская позиция интеллигента тогда заключалась в том, что обязательно надо быть против царя, против правительства.
Сегодня — наоборот. Именно конформизм чаще всего ставят в упрек большинству представителей этого социального слоя.
Интеллигенция старается добиться от власти своего, власть от интеллигенции — своего. Должна же быть какая-то борьба. Вот она и происходит
Михаил Пиотровский: Я думаю, упрек несправедлив. Люди живут в определенном обществе и должны принимать его условия. Если ты ненавидишь мир, уходи в монахи. Если ненавидишь политический строй, начинай с ним бороться, но имей в виду, что на этом пути тебя ждет тюрьма. И это и другое — крайности. А то, что в промежутке, и есть конформизм. Ты должен приспосабливаться и жить. Как бы там ни было, ученый все равно занимается наукой, врач лечит людей, композитор пишет музыку. Культурная традиция должна сохраняться. А для того, чтобы ее сохранить, нужно существовать, иметь кусок хлеба. И в определенный период — чтобы не расстреляли. Сохранять себя ради сохранения культурной традиции — в этом высокий смысл интеллигентского конформизма.
Это вечная тема — интеллигенция и власть. Принято считать, что место интеллигенции в оппозиции, что походы интеллигенции во власть добром не кончаются, причем для обеих сторон.
Михаил Пиотровский: На самом деле власть заинтересована в том, чтобы интеллигенция была немножко в оппозиции. Власть нуждается в оппозиции, но — в интеллигентной. Потому что неинтеллигентная оппозиция — это несанкционированные митинги, уличные беспорядки… Интеллигенция старается добиться от власти своего, власть от интеллигенции — своего. Должна же быть какая-то борьба. Вот она и происходит. Но это не вражда. Это необходимое сопротивление материала. Постоянное перетягивание каната.
Лично вам на посту директора главного государственного музея трудно дается компромисс между должностью и, скажем так, вашими внутренними побуждениями?
Михаил Пиотровский: Нет, не сказал бы, что особенно трудно.
Многие догадываются, что вы думаете о некоторых событиях и явлениях нашей жизни, но по понятным причинам не можете сказать.
Михаил Пиотровский: Я не всегда говорю то, что хотел бы сказать, но никогда не говорю то, чего говорить не хочется.
Последнее время вам часто приходится отбивать атаки определенного сорта. Так было с выставкой Фабра, так было с защитой Исаакиевского собора… Это трудно дается?
Михаил Пиотровский: Это дается нелегко, но это те случаи, когда между моей должностью и моим нравственным долгом не может быть никаких компромиссов. Правда, какие-то вещи следует говорить предельно аккуратно.
Ничего себе — аккуратно: «Только идиоты могут считать, что выставка (Фабра. — В.В.) оскорбляет крест… Что искусство, а что нет, определяет только музей, а не уличная публика». Ваши слова?
Михаил Пиотровский. Фото: Сергей Михеев / РГ
Михаил Пиотровский: Мои. Не смог отказать себе в праве назвать идиотов идиотами. Хотя, наверное, это не вполне интеллигентно.
Вам приходилось говорить «нет», когда вас просили подписать какое-то письмо в поддержку власти или принять участие в травле кого-нибудь?
Михаил Пиотровский: У меня таких ситуаций почти что не было. Начать с того,что я вообще не подписываю коллективных писем. Никаких. Я могу выступать только лично от себя, что и сделал, например, когда написал телеграмму в поддержку Кирилла Серебренникова. Но не по бумаге, которую предлагали мне адвокаты. Я написал отдельное письмо судье. Не думаю, что оно подействовало, тем не менее обошлось домашним арестом. Время от времени я такие письма пишу. Для этого нужно иметь глубокое собственное убеждение, что а) я имею право выразить это мнение; б) от этого будет какая-то польза, а не просто я буду красиво выглядеть.
И все-таки… Мы теряем интеллигенцию?
Михаил Пиотровский: Мы теряем интеллигентность и должны постараться ее сохранить.
А интеллигенцию?
Михаил Пиотровский: Я думаю, что ее давно уже нет. Интеллигентность же кое-где еще остается. И прежде всего в Петербурге.
Визитная карточка
Михаил Пиотровский — директор Государственного Эрмитажа. Родился в 1944 году в Ереване. После окончания школы в 1961 году поступил на отделение арабской филологии восточного факультета Ленинградского университета, которое окончил с отличием в 1967 году, прошел годичную (1965-1966) стажировку в Каирском университете. В 1967-1991 гг. — сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, где окончил аспирантуру и прошел все должности от лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1973-1976 гг. — переводчик, а также преподаватель йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен. С 1992 года — директор Государственного Эрмитажа. Академик РАН. Президент Союза музеев России. Лауреат Государственной премии РФ (2017) и премии президента РФ (2003). Сын выдающегося археолога, многолетнего директора Эрмитажа, академика Бориса Пиотровского.
«Интеллигент – человек, обладающий умственной порядочностью»
В 1993 году академик Д.С. Лихачев направил в редакцию журнала «Новый мир» письмо, озаглавленное «О русской интеллигенции». Публикуем цитату из этого письма.
Я пережил много исторических событий, насмотрелся чересчур много удивительного и поэтому могу говорить о русской интеллигенции, не давая ей точного определения, а лишь размышляя о тех ее лучших представителях, которые, с моей точки зрения, могут быть отнесены к разряду интеллигентов. В иностранных языках и в словарях слово «интеллигенция» переводится, как правило, не само по себе, а вкупе с прилагательным «русская».Безусловно прав А. И. Солженицын: интеллигент — это не только образованный человек, тем более не тот, которому он дал такое обозначение как «образованец» (что-то вроде как «самозванец» или «оборванец»), это, может быть, и несколько резко, но Александр Исаевич понимает под этим обозначением слой людей образованных, однако продажных, просто слабых духом.
Интеллигент же — это представитель профессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, художник, писатель), и человек, обладающий умственной порядочностью. Меня лично смущает распространенное выражение «творческая интеллигенция», — точно какая-то часть интеллигенции вообще может быть «нетворческой». Все интеллигенты в той или иной мере «творят», а с другой стороны, человек пишущий, преподающий, творящий произведения искусства, но делающий это по заказу, по заданию в духе требований партии, государства или какого-либо заказчика с «идеологическим уклоном», с моей точки зрения, никак не интеллигент, а наемник. К интеллигенции, по моему жизненному опыту, принадлежат только люди свободные в своих убеждениях, не зависящие от принуждений экономических, партийных, государственных, не подчиняющиеся идеологическим обязательствам.
Основной принцип интеллигентности — интеллектуальная свобода,- свобода как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своей мысли.
Из: Д.С. Лихачев. «О русской интеллигенции»
Трактовка понятия интеллигенции в годы советской власти Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»
М.И. Добрынина
ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В статье рассматриваются проблемы трактовки понятия интеллигенции на различных этапах развития общества в советский период.
Ключевые слова: интеллигенция, умственный труд, профессионалы, социальная прослойка, социальный слой, характер труда, интеллигентность.
M.I. Dobrynina
INTERPRETATION OF THE CONCEPT INTELLIGENTSIA IN THE SOVIET PERIOD
The article deals with the problems of interpretation of concept intelligentsia of the different stages of development of society in Soviet period.
Key words: intelligentsia, intellectual labor, professionals, social stratum, social strata, the nature of labor, intelligence.
Проблема трактовки понятия интеллигенции остается в современном обществоведении одной из дискуссионных тем. Обширный материал, накопленный социологами, философами, историками по данной тематике, послужил теоретической основой для формирования различных подходов к обозначению интеллигенции.
В отечественной литературе советского периода общепринятой стала социально-экономическая трактовка. Предполагалось, что люди являются специалистами в своей профессии, владеют соответствующими знаниями, умениями, навыками и никакими особыми морально-этическими качествами от остального народа не отличаются. Их творческие способности или этическое самоопределение не учитывались. «Главные отличия официального понимания советской интеллигенции от социологических трактовок дореволюционного времени, — отмечает А.В. Соколов, — заключались, во-первых, в том, что первая мыслится как совокупность профессионалов, выполняющих определенные трудовые функции, а вторая — как совокупность «разумных и образованных» людей независимо от их профессиональной занятости; во-вторых, в акцентировании экономической специфики интеллигенции — работники не физического, а умственного труда» [1].
Важно отметить, что на различных этапах развития советского общества понятие интеллигенции подвергалось существенной коррекции. Так, в 1926 г. С.Я. Вольфсон в своей работе «Интеллигенция как социально-экономическая категория» определял интеллигенцию как «межклассовую, промежуточную — между пролетариатом и мелкой буржуазией — группировку, образуемую лицами, существующими путем продажи своей умственной (интеллектуальной) энергии» [2]. Здесь же автором была высказана мысль о
том, что наряду с интеллигенцией как особой социальной группой в каждом классе существуют свои «интеллигентские прослойки», состоящие из «интеллектуальных (умственно-
квалифицированных) членов данного класса». В последующие тридцатые-пятидесятые годы интеллигенция рассматривалась как социальная прослойка, члены которой заняты умственным трудом. Интеллигенция в те годы отождествлялась со служащими, кадрами специалистов. В «Кратком философском словаре» (под ред.
М.Розенталя и П.Юдина), изданном в 1955 г., говорится: «Интеллигенция — общественная прослойка, состоящая из людей умственного труда. К ней относятся инженеры, техники и другие представители технического персонала, врачи, адвокаты, артисты, учителя и работники науки, большая часть служащих» [3].
В 1960-е гг. произошли заметные изменения в понимании исследователями интеллигенции. Прежде всего, М.Н. Руткевичем и В.С.Семеновым была подвергнута критике трактовка интеллигенции как совокупности работников умственного труда, включавшая в себя специалистов и служащих. Под интеллигенцией ими предлагалось понимать не служащих вообще, а только специалистов, имеющих соответствующую образовательную и профессиональную подготовку [4; 5]. Поскольку в партийно-государственных документах «интеллигенция» рассматривалась как совокупность всех работников умственного труда, то М.Н. Руткевичем была предложена в определенном смысле компромиссная трактовка понятия интеллигенции в широком и узком смысле слова. В широком смысле слова интеллигенция в основном совпадала со служащими как слоем, характеризуемым с точки зрения социального положения. В более узком смысле интеллигенция — это специалисты, занятые умст-
венным трудом [4]. Определение интеллигенции социалистического общества М.Н. Руткевич сформулировал следующим образом. Это «большая социальная группа трудящихся, профессионально занятых умственным трудом высокой квалификации, требующим, как правило, для своего выполнения среднего специального или высшего образования» [6].
В.С. Семенов предложил к интеллигенции относить только тех, кто занимается подлинным умственным трудом. Введя понятие «труд обслуживания», он пришел к выводу, что работники, связанные с этим трудом, не относятся к интеллигенции. Этот труд, по мнению автора, представляет в большинстве случаев вычленение из умственного труда простейших операций по учету, ведению книг, непосредственному обслуживанию и т.п., то есть этот труд не является интеллектуальным трудом, духовной деятельностью в ее истинном значении [5].
В 1960-е гг. предпринимались попытки дать и другие трактовки интеллигенции. О.И. Шкара-тан, С.А. Кугель и ряд других исследователей пришли к выводу, что интеллигенция представляет собой не единый социальный слой общества, а два особых социальных слоя внутри классов рабочих и крестьян [7; 8]. Интеллигенция ими рассматривалась как внутриклассовый слой в рамках либо рабочего класса, либо крестьянства на том основании, что между людьми умственного и физического труда в условиях социализма нет различий по отношению собственности, являющимся основным классообразующим и социально дифференцирующим признаком.
Наряду с характером и содержанием труда, уровнем образования и профессиональной принадлежности, отношением к собственности на средства производства были предложены качественно иные основания определения интеллигенции. Например, С.П. Стадухин рассматривал интеллигенцию как «социальную группу людей, труд которых, являясь умственным по содержанию и творческим по характеру, в целом направлен на преобразование природы, социальнополитического устройства общества и духовнонравственного облика личности» [9].
Естественно, не все сформировавшиеся к тому времени точки зрения нашли поддержку исследователей. Аргументированной критике была подвергнута точка зрения О.И. Шкаратана и С.А. Кугеля, трактовавших интеллигенцию как внутриклассовый слой. При таком подходе интеллигенция расчленялась, а ее части включались в состав рабочего класса и колхозного крестьянства, что означало по существу отрицание интеллигенции как единого социального слоя. Правда, спустя 8 лет О.И. Шкаратан признал неверной
точку зрения о том, «что производственнотехническая интеллигенция вошла в состав рабочего класса» [10]. Несмотря на свою обоснованность, не стал общепринятым взгляд на интеллигенцию, сформулированный при помощи введения понятия труда обслуживания.
Из всех приведенных трактовок интеллигенции наиболее широкое распространение получила та, которая рассматривала интеллигенцию как социальную группу трудящихся, профессионально занятых умственным трудом высокой квалификации, требующим, как правило, для своего выполнения среднего специального или высшего образования. Тем не менее и это определение интеллигенции не осталось вне критики. Его оппоненты отмечали отсутствие в нем указания на связь интеллигенции как социального слоя с классовым делением общества, использование профессиональных характеристик для определения социальных различий, применение в качестве критерия определения интеллигенции соответствующего образования [11]. Несмотря на отмечавшиеся исследователями недостатки этого определения, интеллигенция и в последующие годы в большинстве случаев характеризовалась как социальный слой, для которого квалифицированный умственный труд является основным видом профессиональной деятельности и главным источником существования как «социальная группа трудящихся, отличительная особенность которой заключается в том, что ее лица профессионально занимаются высококвалифицированным умственным трудом [12].
Следует отметить, что в конце 1970-х гг. была предпринята попытка вернуться к старому определению интеллигенции. В докладе на пленарном заседании Всесоюзной научной конференции, которая состоялась в 1979 г. в Новосибирске («Советская интеллигенция и ее роль в строительстве коммунизма»), Ц.А.Степанян определял интеллигенцию как социальный слой, включающий в себя всех лиц, занятых умственным трудом. Он говорил: «Советская интеллигенция -это многонациональный по природе, многоотрядный по профессиональной структуре, массовый и быстрорастущий единый социальный слой тружеников преимущественно умственного труда, в прочном союзе с рабочим классом и крестьянством осуществляющий под руководством ленинской партии строительство коммунистического общества». Здесь же Ц.А. Степанян спрашивал: «На каком основании служащие как особый социальный слой определяются от интеллигенции?» Он считал, что служащие — это неотъемлемая часть единого, но состоящего из разных по квалификации групп, слоя интеллигенции. Однако призыв к подобной трактовке интелли-
генции не оказал заметного влияния на ориентации интеллигентоведов. К этому времени в среде исследователей окончательно утвердилось и мнение, высказывавшееся, как уже отмечалось, еще в 60-е гг. о необходимости замены понятия «прослойка» по отношению к интеллигенции 80-х гг. продолжали появляться работы, в которых интеллигенция рассматривалась как «промежуточный слой», т.е. фактически — «прослойка» [13]. Сохранялось и представление об интеллигенции как о социальной группе, не имеющей собственных интересов, а выражающей интересы лишь классов, служащей классам. В связи с этим В.С. Волков писал, что советская интеллигенция трактовалась как новый социально-исторический тип интеллигенции, который «сознательно направляет свою профессиональную и общественную деятельность на служение коренным интересам рабочего класса, руководствуясь при этом идеями марксизма-ленинизма».
Как уже отмечалось, выделение и понимание интеллигенции в качестве особой социальной группы в обществе детерминированы ее местом в общественном разделении труда, которые связаны с умственным трудом. Особенность интеллигенции заключается в выполнении ею функций сложного умственного труда в различных сферах общественной жизни. Для характеристики труда важное значение имеют понятия содержания и характера труда. Содержание и характер труда — ключевые понятия, характеризующие диалектически связанные между собой две стороны труда. С одной стороны, труд является средством обмена веществ между человеком и природой, с другой — выступает как средство общения между людьми в процессе производства. Содержание труда — это различные его виды, обусловленные спецификой трудовых операций, трудовых навыков и специальных знаний. Различия по содержанию порождают профессиональные различия. Что касается характера труда, то он являет собой социально-экономическую категорию, которая отражает сущностную сторону труда, обусловленную определенным общественным способом производства. Понятие «характер труда» определяет не профессиональные, а социальные различия в обществе. Отсюда характер труда выступает главным критерием определения интеллигенции. Именно характером труда интеллигенция прежде всего отличается от общественных классов. Рабочие и крестьяне, будучи связанными преимущественно с физическим трудом, непосредственно или опосредованно с помощью машины, автомата воздействуют на предмет труда и производят материальный продукт или услуги материального характера. Интеллигенция же связана с качественно иным
по содержанию и характером трудом. Интеллигент функционально связан либо с духовным производством, либо со сложным умственным трудом в области обслуживания, либо в материальном производстве представляет собой деятельность по его научному, конструкторскому, технологическому, организационному, экономическому обеспечению, либо является трудом по управлению производством или другими сферами общественной жизни. Результатом непосредственного труда интеллигенции являются созданные им духовные ценности. Но интеллигенция является носителем не только социальнофункциональных качеств, ее представителям присущи и определенные культурно-личностные свойства, совокупность которых принято именовать интеллигентностью. В переводе с латинского языка «интеллигентность» означает «понимающий», «умственно развитый», «культурный».
Интеллигентность гармонично сочетает многие признаки и немыслима без широкой культуры и образования. «Интеллигентность» отражает, с одной стороны, всестороннее развитие человека — высокий уровень морально-этических качеств, профессионального мастерства, общественной сознательности, с другой — активное применение творческих способностей в своей деятельности. С интеллигентностью издавна связано представление о высокой воспитанности, культурности, служении общенародным идеалам, демократизме мышления, бескомпромиссности в отстаивании правды. Интеллигенция -это не только и не просто специалисты, но и одновременно люди концентрированно выражающие духовные заботы, надежды людей, народную совесть и мораль, формулирующие социальные и идейные цели народа, его духовные и нравственные ценности.
Не случайно, вначале 1980-х гг. В.М. Толстых и Л.Я. Смоляков предложили при характеристике интеллигенции социально-функциональную сторону ее жизнедеятельности рассматривать в неразрывной связи с культурно-личностной стороной. Эти две стороны в своей совокупности составляют родовую сущность интеллигенции. Нельзя не согласиться с Л.Я. Смоляковым, что «в реальной жизни нет и не может быть такого явления, как «интеллигент без интеллигентности» или «неинтеллигенный интеллигент». Такие словосочетания должны восприниматься как логический абсурд [14; 15].
«Следовательно, как совершенно правильно, на наш взгляд, — пишет И.С. Болотин, — сами знания, образованность не делают человека интеллигентом. Это дало основание А.И. Солженицыну отличить интеллигенцию от образованщи-ны. «Быть интеллигентом значит больше, чем
обладать определенной профессией. Ее характеризует прежде всего внутренняя сконцентрированность на нравственных и духовных проблемах. Как социальная группа интеллигенция формируется на основе общей духовности» [16].
Подчеркивая важность духовно-нравственных критериев при характеристике интеллигенции мы отдаем себе отчет в трудности их определения. В литературе существовали и существуют различные подходы при рассмотрении интеллигентности. Так, Ю.Ф. Абрамов и Г.В. Акименко утверждают, что интеллигентность является особым видом социальности. «Природа интеллигенции заключена в интеллигентности — таком виде социальности, который присущ только ей. По сути интеллигенция — мозаичный синтез специальностей, ядром которого выступает мировоззрение» [17]. В. А. Куманев в содержании интеллигентности в числе общечеловеческих морально-этнических черт выделяет гражданственность и самопожертвование во имя блага и интересов Отечества [18]. Качества интеллигентности называют Л.Я. Смоляков, К.Г. Барбакова, Ю.Н. Козырев, В.А. Мансуров, Р.Д. Мамедов, Э.Н. Фау-стова и другие.
Обращает на себя внимание то, что при характеристике интеллигенции, некоторые авторы используют понятия «духовная элита общества», «эталон нравственности, духовности», «мозг нации» и другие. Возникает вопрос не слишком ли высокие требования предъявляются к интеллигенции? В этой связи уместным является замечание Г.Г. Халиулина о том, что нереально повышенный «проходной балл» в интеллигенты ведет к тому, что самой интеллигенции может оказаться меньше, чем ее исследователей [19]. К тому же надо иметь в виду, что качества интеллигентности могут быть присущи не только представителям интеллигенции, но и некоторой части рабочих, крестьян, предпринимателей, других социальных групп. При этом, обладая качествами интеллигентности, они не перестают быть рабочими, крестьянами, предпринимателями… Что касается интеллигенции, то наличие у них данных качеств является обязательным. В противном случае они лишаются статуса интеллигентов в подлинном смысле этого слова.
Возвращаясь к критериям интеллигентности, надо отметить, каждое общество стремиться к тому, чтобы все его члены сформировали у себя высокие духовно-нравственные ценности, особенно представители интеллигенции. Однако в реальной жизни далеко не каждый специалист становится эталоном нравственности или духовности. В этой связи мы отдали бы предпочтение определению интеллигенции И.И. Осинским как
«социальной группы, члены которой функционально заняты сложным умственным трудом и обладают общепризнанными развитыми культурно-нравственными качествами» [20]. В данном определении в качестве конституирующих признаков наряду с функциональной занятостью сложным умственным трудом называются общепризнанные культурно-нравственные качества. К последним относятся гражданственность, духовность, нравственность, совестливость и другие. Совокупность этих качеств выражается понятием интеллигентности. Думается, что эти качества являются вполне достижимыми и достаточными для утверждения в статусе интеллигента.
Сознавая значимость духовно-нравственных критериев при определении интеллигенции, мы в то же время не считаем их единственными. Кстати, в качестве единственных данные критерии рассматриваются рядом авторов. В зависимости от наличия этих качеств или их отсутствия решается вопрос: есть ли в России интеллигенция или ее нет. Неслучайно, на страницах газет и журналов нередко встречаются заголовки статей с характерными названиями: «Русский интеллигент уходит» (Д. Гранин), «Закат советской интеллигенции» (Б. Кагарлицкий), «Прощай, интеллигенция» (Н. Покровский) и другие [21].
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что, несмотря на всю значимость, культурнонравственной характеристики интеллигенции, эта характеристика, на наш взгляд, не может быть достаточной для определения данной дефиниции. Как уже отмечалось, не менее важным критерием определения интеллигенции является ее место в системе общественного разделения труда, которое характеризуется ее функциональной связью с умственным трудом. Интеллигенция — это, прежде всего, социальная категория, особая социальная группа людей — участников духовного производства. С точки зрения социологического подхода интеллигенция — группа людей, занятых сложным умственным трудом, это то, что П.А. Сорокин называл «профессиональной работой интеллектуального характера». С выполнением именно этой функции связано место интеллигенции в общественном разделении труда. Исходя из этого, а также учитывая некоторую нечеткость культурно-нравственных критериев в процессе конкретного научного исследования, мы считаем возможным отдать предпочтение критерию характера труда, при этом нисколько не умаляя важности культурнонравственных характеристик интеллигенции. В связи с этим представляется интересной точка зрения историка Г. Г. Халиулина о том, что интеллигентность является приоритетным качест-
вом интеллигенции, но при ее изучении на первый план выходит характер труда и профессиональные критерии, поскольку интеллигенция и предмет ее конкретно-исторического исследования взаимно связанные, но не тождественные понятия» [19]. Другой историк В.Р. Веселов, отмечая ведущую роль для историка интеллигенции социологического подхода, подчеркивает, что «отказ от социально-исторической парадигмы исследования интеллигенции приведет к разрушению преемственности отечественной историографии проблемы, подавляющая часть которой, особенно в советский период, развивалась в социологическом ключе» [22].
Некоторые социологи при характеристике интеллигенции предлагают ввести такой признак, как творческий характер ее профессиональной деятельности. Так, болгарский ученый К. Димитров определяет интеллигенцию не только как слой людей с высоким образованием и квалификацией, но также подчеркивает творческий характер умственного труда интеллигенции [23]. С приведенным утверждением проявляет солидарность Л.Я. Смоляков, уточняя при этом свое понимание творчества, в котором, по его мнению, помимо всего прочего реализуются высокие нравственные, гражданские идеалы. Интеллигент, занимающийся таким творчеством, представляет собой динамично развивающуюся личность, а степень развитости личности схватывается понятием «интеллигентность», которое, таким образом генетически связано с понятием «интеллигенция» и «интеллигент» [15]. Правы авторы в высокой оценке элемента творчества в деятельности интеллигенции. И все же нам представляется, что нет необходимости при определении интеллигенции дополнять указанные ранее признаки признаком творчества. Как правильно, на наш взгляд, пишет Т.В. Никитина, что уже само по себе занятие высококвалифицированным умственным трудом подразумевает наличие в нем (в той или иной степени) творческого начала. М. Вебер, например, выступал против представления, согласно которому «творческие» профессии противопоставляются «прикладным». «Истинный смысл профессий духовного труда, -считал немецкий социолог, — будь это деятельность юриста, ученого или врача — заключается в «практическом», «деловом» осуществлении связи «повседневно» и «неповседневно» ориентированных моментов, а это уже творческий, т.е. новаторский акт» [24]. Творческие потенции и творческие результаты труда интеллигенции и других социальных групп по созданию материальных и духовно-культурных богатств служат основой жизнедеятельности не только отдельных стран и народов, но и цивилизации в целом.
Литература
1. Соколов А.В. Поколения русской интеллигенции. -СПб., 2009. — С. 31.
2. Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социальноэкономическая категория. — М.; Л., 1926. — С. 9.
3. Краткий философский словарь / под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 4-е изд. — М., 1955. — С. 160.
4. Руткевич М.Н. Изменение социальной структуры советского общества и интеллигенция // Социология в СССР. Т.1. — М., 1966. — С. 392.
5. Семенов B.C. Об изменении интеллигенции и служащих в процессе строительства коммунизма // Там же. -С.417-418.
6. Руткевич М.Н. Интеллигенция как социальная группа и ее сближение с рабочим классом // Классы, социальные слои и группы в СССР. — М., 1968. — С. 136-137.
7. Шкаратан О.И. Изменения в рабочем классе при переходе к коммунизму // Рабочий класс — ведущая сила строительства коммунизма. — М., 1965.- С.12-13.
8. Кугель С.А. Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму. — М., 1963. — С.42-48.
9. Стадухин С.П. Некоторые закономерности развития социалистической интеллигенции в период строительства социализма: автореф. дис. … канд. филос. наук. — М., 1966. — С. 14.
10. Бляхман Л.С., Шкаратан О.И. НТР, рабочий класс, интеллигенция.- М., 1973.- С. 161.
11. Семенов B.C. Диалектика развития социальной структуры советского общества.- М., 1977.- С. 44.
12. Бокарев Н.Н., Филиппов Ф.Р., Чаплин Б.Н. Изменение социальной структуры интеллигенции // Социология и современность. Т. 1. — М., 1977. — С. 230.
13. Степанян Ц.А. Закономерности формирования советской интеллигенции и основные этапы ее развития на пути к коммунизму // Некоторые теоретические проблемы формирования и развития советской интеллигенции на пути к коммунизму: материалы всесоюз. науч.-теорет. конф. -М., 1979. — С. 7.
14. Толстых В. И. Об интеллигенции и интеллигентности // Вопросы философии. 1982. — № 10. — С. 83-98.
15. Смоляков Л.Я. Социалистическая интеллигенция. -Киев, 1986. — С. 150.
16. Болотин И.С. Российская интеллигенция в XX веке: проблемы социологического изучения // Ценностная и социальная идентичность российской гуманитарной интеллигенции: тез. всерос. теоретико-метод. конф. (Москва, 26-27 апр. 2000 г.). — М., 2000. — С. 20.
17. Абрамов Ю.Ф., Акименко Г.В. Об интеллигенции и интеллигентности // Интеллигенция в системе социальноклассовой структуры и отношений советского общества: тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч. конф. — Кемерово, 1991. -Вып. 1. — С. 18.
18. Куманев В. А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции (очерки). — М., 1991. — С. 13.
19. Халиулин Г.Г. Интеллигенция как предмет исторического исследования в свете современных дискуссий // Интеллигенция России: уроки истории и современность: тез. докл. межгос. науч.-теорет. конф. (Иваново, 20-22 сентября 1994 г.) — Иваново, 1994. — С. 23.
20. Осинский И.И. Интеллигенция: национальные и региональные проблемы // Интеллигенция в современном обществе: национальный и региональный аспекты: материалы междунар. науч. конф. (Улан-Удэ, 25-27 июня 1997 г.). — Улан-Удэ, 1997. — Ч. 1. — С. 3.
21. Пригарин А. Будущее за интеллигенцией (полемические заметки) // Альтернатива. — 1999. — № 3. — С.2.
22. Веселов В.Р. Реалисты и романтики: не пора ли размежеваться? // Интеллигенция и власть на пороге XXI века: тез. докл. регион. науч.-практ. конф. (28-29 марта 1996 г.). —
Екатеринбург, 1996. — С. 59- 60.
23. Die intelligenz in sozialistischen Gesellschaft. — Berlin, 1980. — Р. 33.
25. Никитина Т.В. Гуманитарная интеллигенция в современных условиях: автореф. дис. … канд. социол. наук. -М., 1993. — С. 10-11.
Добрынина Марина Ивановна — канд. филос. наук, доцент, ст. науч. сотрудник БГУ, Улан-Удэ.
Dobrynina Marina Ivanovna — candidate of philosophy science, lecturer, senior scientific researcher of Buryat State University, Ulan-Ude.
E-mail: [email protected].
УДК 616. 344.27
НМ Воловская, ЛК Плюснина, А.В. Русина
МАСШТАБЫ И СФЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
(по материалам социологического обследования)
В статье представлены результаты социологического исследования теневой оплаты труда, проведенного в Новосибирской области. Изучены масштабы теневой занятости, сферы распространения по отраслям и видам деятельности, способы выплаты заработной платы, отношение людей к неформальной заработной плате.
Ключевые слова: теневая заработная плата, неофициальная заработная плата, заработная плата «в конверте», работодатель, наемный работник, неправовые практики в сфере оплаты труда, незанятые граждане.
N.M. Volovskaya, L.K. Plusnina, A.V. Rusina
EXTENT AND INCIDENCE OF SHADOW WAGE (on the materials of sociological research)
This article presents the results of sociological research of shadow wage, which was held in Novosibirsk region. Extents of shadow employment, incidence in sectors and industries, ways of payment, employees’ attitude to informal wage are studied.
Key words: shadow wage, informal wage, “envelope” wage, employer, employee, illegal practice of labor payment, unemployed people.
Рыночные реформы 1990-х гг. способствовали распространению в России теневой экономики, что вызвало рост теневых процессов на рынке труда и, в частности, использование теневой (скрытой) оплаты труда работников. Теневая оплата труда входит в скрытые доходы населения, которые составляют, по оценкам специалистов, 23-24% ВВП и, по данным Росстата, население России не менее четверти доходов получает в скрытой форме [1]. По мнению специалистов, теневая оплата труда сейчас составляет в России от 20 (мнение ФНС) до 40% (независимые эксперты) общего числа [2]. При этом следует отметить, что теневая оплата труда достаточно распространена и в других странах. Так, согласно последнему исследованию Eurobarometer, доля зарплат в конвертах в 27 странах ЕС колеблется от 1 до 23%. В среднем, по Евросоюзу показатель составляет 5%, при этом в Румынии — 23%, в Чехии — 3%, Словении — 5%, в Италии — 7%, Бельгии — 6%; в Великобритании, Франции, Германии, Мальте, Люксембурге — 1% [3].
Под теневой оплатой труда мы понимаем вознаграждение за труд осуществляемое нелегитимным способом, т.е. не в соответствии с действующим законодательством. Это так называемые неправовые практики в сфере оплаты труда, когда выдача заработной платы не сопровождается оформлением соответствующих документов.
Особенность теневой оплаты труда заключается в том, что ее нельзя отождествлять с зара-
ботной платой неформально занятых работников, так как она включает не только людей, которые заняты в неформальном секторе экономики. Теневая оплата труда возможна и довольно широко используется также при официально зарегистрированной занятости. Причем масштабы и размеры ее очень трудно установить в связи с тем, что она нередко бывает выгодна для обеих сторон социально-трудовых отношений. Работодатель, принимая наемного работника на условиях официально не оформленной заработной платы, получает возможность снизить издержки на труд, уйти от уплаты налогов, а наемный работник получает работу и в совокупности с официальным заработком вполне приличную заработную плату, которую бы он не получил при других условиях найма. В связи с этим он мирится с такими последствиями теневой оплаты труда, как неполная оплата в связи с временной нетрудоспособностью, уходом в отпуск и т.д.
Особенностью теневой заработной платы является также то, что она зачастую носит долговременный характер, который формируется под влиянием обоюдного согласия работодателя и работника при условии сохранения ими тайны договора подобных социально-трудовых отношений. Причем долговременность отношений сочетается с их быстрой прерывностью при несоблюдении условий найма работником. Наемный работник в данном случае бесправен, и работодатель в любой момент может прекратить
Читатель «Газеты.Ru» Леонид Николаенко о том, почему власть игнорирует интеллигенцию
Интеллигенция, которая в принципе должна исполнять функцию разработчика и адвоката политических, экономических и ценностных моделей, исключается из общественной системы. Власть сама придумывает, сама обосновывает, сама вводит, сама следит. В итоге мысль теряет всякую связь с реальностью и постепенно радикализируется. Уже двухвековая традиция изоляции интеллигенции от практики дает свои плоды.
Слово «интеллигенция» — одно из тех, что понятны только на интуитивном уровне, а точного определения ему не найдешь ни в одном справочнике. Употребляется оно весьма часто, в разных значениях, всеми без разбору. Каждому и кажется поэтому, что «всем понятно».
Особенно интересно следить за попытками научного подхода к феномену интеллигенции. Даже действительно большие ученые не могут толком сформулировать, что же это такое. В 1997 году вышел сборник статей под названием «Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология», который открывался статьями Бориса Успенского и Михаила Гаспарова — ученых, безусловно, «больших», если не сказать «великих».
Однако ни в той, ни в другой статье даже самого захудалого определения слову «интеллигенция» нет, и кого обсуждают большие ученые, неясно. Как же читать книгу, если непонятно, о чем она?
На самом деле, как мне думается, определение «интеллигенции» дать можно, но только договорившись сразу, что слово это может значить разные вещи, друг с другом почти никак не связанные.
Первое и самое очевидное определение интеллигенции — это круг людей, которые умеют считывать определенный культурный код. К этому значению не подходят никакие политические и мировоззренческие условия. Знаешь, кто такой Пушкин и что хотя бы примерно написано в «Анне Карениной», — интеллигент. Даже читать необязательно, главное вкратце знать сюжет. Не знаешь — не интеллигент. И все. Никакая оппозиция тебе не поможет.
Слово «интеллигенция» часто используется как сокращение от более конкретных двухсловных понятий: «либеральная интеллигенция», «еврейская интеллигенция», «творческая интеллигенция», «техническая интеллигенция», «православная интеллигенция»… Водоразделы, как видно, могут проходить абсолютно по любому признаку — занятиям, образованию, идеологии, национальности.
Понятное дело, что круги эти между собой все пересекаются — у каждого какая-то работа, какая-то национальность, какое-то мировоззрение. Формируются они все одинаково: первый пункт плюс идеология/национальность/занятие/образование.
Итого: в этом значении использовать сочетания вроде «интеллигенция против…», «интеллигенция за…» глубоко бессмысленно. Круг людей, читающих Пушкина и Толстого и даже приблизительно представляющих, в каком веке жил Иван Грозный, слишком широк.
Второе значение слова «интеллигенция», которое можно уловить в воздухе, — «властители дум», то есть те, кто формирует «общественное мнение».
Я думаю, с этим многие согласятся. Этот пункт интересен вот чем: следуя этому определению, Ключевский ничуть не лучше Фоменко. Гитлер и Ленин — великие интеллигенты. Рекламщики, пиарщики, политтехнологи и журналисты расселись во главе стола. Ведь тут неважно, умен ли человек, образован ли он и тем более прав ли, важно, формирует он общественное мнение или нет. Формирует — значит, интеллигент. А вот, к примеру, ученый, который занимается каким-нибудь узкоспециальным или хотя бы просто научным вопросом, получается, выпал из интеллигентского круга. «Работник умственного труда», не больше. Туда же переводчиков, редакторов, режиссеров и художников с композиторами.
В-третьих, сегодня любят употреблять слово «интеллигенция» те, кто так и не выучил странного сочетания «креативный класс». Полностью разделяя нелюбовь к неуклюжим неологизмам, хочу заметить, что называть этот круг «интеллигенцией» — значит, подменять понятия.
Системный администратор и продюсер — совсем не обязательно интеллигенты, но «креативности» им не занимать. Значительная часть интеллигенции, безусловно, относится к «креативному классу», но понятия эти вовсе не тождественны. Возможно, для «креативного класса» и можно выделить какие-то общие направления мысли, но они серьезно разойдутся с теми, что будут общими для интеллигенции.
Итак, как же можно говорить о «русской интеллигенции» как о какой-то монолитной социальной группе? Кого в конце концов обсуждают Успенский с Гаспаровым в работах «Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры» и «Русская интеллигенция как отводок европейской культуры»?
Мне кажется, я знаю ответ.
Под «феноменом интеллигенции» они понимают «круг людей, знающих культурный код и создающих общественное мнение для тех, кто тоже его знает».
Такая вот циклическая картинка: от первого пункта ко второму и обратно.
«Что в этом важного и ради чего стоило писать столько слов, хотелось бы знать?» — спросит меня читатель. Я отвечу: надо помнить, что «интеллигенция» и «феномен интеллигенции» — разные вещи и, более того, разные люди. Людей, которые активно занимаются созданием общего мнения для собственного круга, совсем немного. От интеллигенции они составляют лишь малую часть. И тем не менее они очень важны, поскольку во многом формируют интеллигента будущего.
Теперь, разобравшись в терминах, хочу задать еще пару вопросов. Первый. Почему же все-таки оппозиционность власти оказалась столь важной для «феномена русской интеллигенции»? Это же глупо. В духе «еврейской интеллигенции» отвечу сам себе вопросом на вопрос: «А когда в России власть поощряла этот самый феномен?» Не в этом ли дело?
В нашей истории бывало, что власти брали под крыло какую-нибудь часть интеллигенции — техническую или какую другую. Но вот чтобы власть работала с теми, кто работает над созданием мнения для интеллигенции, такого я не припомню.
И вот почему. У русской власти всегда свои представления о демократии — самые демократичные, надо признать: она работает с теми политтехнологами своего временного разлива, которые влияют на широкие массы. А работа с интеллигенцией всегда власти представляется чем-то мелким и ненужным — электорат небольшой.
Вот и в 17-м году выяснилось, что все революционные надежды «русской интеллигенции» не оправдались: слишком невелика была ее аудитория. Это же мы наблюдаем и сейчас, мне кажется. Реформа образования, реформы в сфере науки и так далее — все это задумано не для того, чтобы специально задушить интеллигенцию, а затем, чтобы работать с более широкими массами было проще. Но как раз все эти реформы, закрытие СМИ и прочие меры бьют по интеллигенции гораздо больнее, чем разворованные миллиарды. Это хуже, чем преступление, это ошибка.
Хочу зафиксировать еще одну важную, на мой взгляд, мысль. Властители дум интеллигенции готовы работать с властью. Во всяком случае значительная их часть.
Хотя бы потому, что больше им работать по большому счету не с кем. В финансовом плане их работа сама не окупается и не может окупаться в принципе («узок их круг и страшно далеки они от народа…»). Их интересы во многом сосредоточены вокруг политики, причем всякой: от международной до социальной.
Власти достаточно перестать игнорировать эту группу, привлечь ее наконец к работе, обеспечить и поддержать. И тогда у нее появятся все шансы иметь вполне лояльную интеллигенцию уже через поколение.
Да, с ней надо договариваться. Да, ей надо давать работать и платить даже, когда тебя ругают. Да, она никогда не будет целиком и полностью согласна. Но дело, мне кажется, того стоит. Более того, именно в этом случае она наконец выполнит и свою социальную функцию: рано или поздно, через долгие споры и ругань, но выработает она тебе и национальную идею. Главное — не мешать.
По моему глубокому убеждению, если бы Николаю I хватило ума не запрещать и западников, и славянофилов, а напротив, дать и тем и другим разгуляться, то выработали бы они ему что-нибудь лучше уваровской модели. Точнее, вряд ли ему, но уж Александру II под конец царствования точно бы повезло. Опираясь на все те же статьи, скажу больше: духовенство, которое выполняло до XVIII столетия функции интеллигенции, с этим худо-бедно справлялось. И не по своей сервильной сущности, а как раз потому, что было востребовано, в том числе и государством, могло вступать с ним в диалог, отстаивать свою точку зрения и участвовать в политической жизни.
Иногда создается впечатление, что власть в недоумении: почему же они нас так не любят? А кто ж будет любить того, кто ничего хорошего для тебя не делает, более того, игнорирует, а потому часто наступает на ногу?
Второй вопрос не менее интересен. Почему же все-таки оппозиционность народу оказалась столь важной для «феномена русской интеллигенции»? Казалось бы, тоже странное дело. Для кого стараются-то? И тем не менее придется признать, что я даже и не припомню, когда интеллигенция в обозначенном мною узком понимании была выразителем «воли народа».
В статьях Успенского и Гаспарова отмечен сам факт противопоставления «интеллигенция — народ», но более конкретного ответа нет. Хотя вопрос-то, может, поинтереснее, чем с властью, где много есть очевидных и объективных причин. Честно сказать, мне ничего не приходит в голову лучше, чем обратиться к собственному ответу на первый вопрос. «Народ» выступает как постоянный конкурент — победитель «интеллигенции» в отношениях с властью. Не в этом ли дело?
В интеллектуальном плане власть оккупирует гипотетически «лояльную» зону мысли, исключая интеллигенцию из игры. К примеру, интеллектуальный политически ценностный консерватизм, близкий теоретически к охранительству, не пользуется ни поддержкой, ни одобрением со стороны власти и никогда не пользовался, и уж тем более не использовался, в реальной политике.
Так было и со славянофилами в XIX веке (которые вполне могли бы разработать если не понятие «самодержавие», то уж «народность» и «православие» точно довели бы до чего-нибудь более-менее внятного), так остается и ныне.
Власть играет на консервативных настроениях широких слоев, не привлекая интеллигенцию, чтобы подвести под свою игру интеллектуально-философско-историческую базу. Это, надо заметить, страшный удар: люди, готовые в принципе такую базу разработать, оказываются перед выбором — либо они меняют свои убеждения, либо разрабатывают на кухне идеи, которые используются (если попадаются на глаза) для одобрения неконтролируемых действий. Ну или просто думают молча.
Почти то же происходит и с либералами. Речь идет не столько о конкретной политической позиции конкретных людей, сколько об интеллектуальном направлении в целом. Власть, постоянно жонглируя словами из их лексикона, не дает либеральной мысли никакой возможности прийти в соответствие с реальностью, не допуская использования разработанных моделей даже на самом низовом и безопасном уровне.
В обоих случаях создается некая «псевдоинтеллигенция» (в значении «властители дум»), которая транслирует не разработанные концепции, а набор лозунгов.
Интеллигенция, которая в принципе должна исполнять функцию разработчика и адвоката политических, экономических, ценностных и прочих моделей, т.е. посредника между властью вводящей модели и людьми, которым приходится этим моделям следовать, исключается из системы.
Власть сама придумывает, сама обосновывает, сама вводит, сама следит.
Интеллигенции здесь просто нет места. В итоге мысль, во-первых, теряет всякую связь с реальностью, во-вторых, постепенно радикализируется. Уже двухвековая традиция изоляции интеллигенции (в узком смысле) дает свои плоды. Запертый в одиночной камере пациент пытается сохранить хотя бы остатки рассудка. Получается не очень.
Оппозиционность интеллигенции как социологическая проблема
Широко распространено мнение, что едва ли не родовой чертой интеллигенции является ее оппозиционность относительно власти. Это мнение проводится в капитальном труде крупного современного историка Б. Н. Миронова, который, руководствуясь принципом междисциплинарности, нередко прибегает к историко-социологи-ческому анализу. Он подчеркивает, придавая своим словам конвенциональный оттенок: «Понятие образованное общество будет использоваться для обозначения той части общества – писателей, журналистов, людей интеллигентного труда, общественных деятелей, “читающей публики”, которая интересовалась общественной жизнью, имела свое мнение и тем или иным способом его выражала... Интеллигенцией будет называться та часть образованного общества, которая находилась в той или иной степени в оппозиции к режиму. Общество будет означать все население, принадлежащее к данному государству, а народ – непривилегированные разряды населения – крестьян, мещан, ремесленников, рабочих…»[1].
Насколько соответствуют эти представления российской действительности второй половины XIX – начала XX вв.? По переписи 1897 г. интеллигенция в России составляла 2,7 % занятого населения, но специалисты, которые трудились в сферах материального производства и культуры, – 1,3 %[2]. Однако Б. Н. Миронов, зачисляя в образованное общество людей, характеризуемых разными признаками, относит к интеллигенции лишь тех, кто находился в оппозиции к режиму, и тем самым еще больше сокращает ее численность, так как далеко не каждый интеллигент был оппозиционером. Если руководствоваться посылками Миронова, то два инженера, занятые «интеллигентным трудом», но по-разному относящиеся к политическому строю, принадлежат к различным социальным группам. Невозможно согласиться и с тем, что интеллигенция не входит в народ.
Рассматриваемое представление об интеллигенции не позволяет теоретически интегрировать интеллигенцию в систему общественных отношений. Например, это представление нельзя распространить на современное российское общество хотя бы потому, что множество людей, имеющих высшее образование, не относятся к интеллигенции, ибо являются рабочими, продавцами, лавочниками, сторожами, проститутками, бомжами и т. д. (Оставляю в стороне вопрос о том, относятся ли к интеллигенции чиновники, бизнесмены, многие лица свободных профессий и др.[3]) Интеллигенция оказывается чем-то трансцендентным для статистики. Можно сосчитать, сколько в стране педагогов, медиков, инженеров и т. д., но никакая статистика не в состоянии выяснить, какой учитель относится к интеллигенции, поскольку он оппозиционен, а какой не относится, поскольку он лоялен.
Эти рассуждения могут вызвать следующее возражение: историк Б. Н. Миронов дает определение интеллигенции исходя из условий конца XIX в., а социолог, критикующий историка, рассуждает исходя из современных реалий. Несомненно, что содержание категории не остается неизменным, но при всех изменениях она сохраняет саму себя, в противном случае вместо старой категории возникает новая.
Нельзя не обратить внимание и на следующее обстоятельство. Образованное общество и интеллигенция – понятия с разным «историческим запахом». Дело не в том, когда и где появились эти термины, какое значение им придавалось в разные периоды российской истории. Дело в том, что образованное общество – аналог другого понятия: светское общество, которое восходит к дворянскому, феодальному миру, тогда как интеллигенция, интеллектуалы, профессионалы – знаки капиталистической эпохи. Можно допустить, что российские университеты во второй половине XIX в. удовлетворяли и потребность дворянства в образовании, и потребность страны в социальном слое, профессионально занятом развитием культуры и ее внедрением в общественную жизнь. Однако совершенно неверно смешивать эти потребности и результаты их удовлетворения[4]. Отсюда следует, между прочим, что часто встречающееся понятие «дворянская интеллигенция» просто бессодержательно.
Важно обратить внимание на следующий парадокс: то, что мы в России называем интеллигенцией, возникло на Западе раньше российской интеллигенции, но последняя идентифицировалась раньше, чем это произошло в более развитых странах. Причина данного явления в том, что интеллигенция в России возникла в период (во второй половине XIX в.), когда страна шла к буржуазно-демократической революции. В этих эксклюзивных условиях часть нового социального слоя, разночинной интеллигенции, сочла долгом и обязанностью отдать свою жизнь – в переносном, а то и в прямом смысле этого выражения – за освобождение народа. Мы сталкиваемся здесь со старой проблемой соотношения гражданского и профессионального в человеческом бытии. Сказано: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Прекрасные слова, однако абсолютизировать их – ошибка. Потому что идеальным, точнее, нормальным является такое состояние социума, при котором гражданские и профессиональные аспекты жизнедеятельности интеллигенции неразрывно и гармонично взаимосвязаны. По своей природе интеллигенция не оппозиционна, а созидательна, как созидательны рабочий класс и крестьянство, но более всесторонне, на ином уровне, в других формах.
Разумеется, в силу своей подготовленности интеллигенция часто реагирует на противоречия общественной жизни эмоциональнее, быстрее, энергичнее, чем широкие массы народа. Но реакции «простонародья» имеют свои преимущества. Нередко именно со стихийных массовых выступлений начинались события, имеющие эпохальное значение. Так обстояло дело с Февральской революцией 1917 г. Однако главное в другом. Оппозиционность широких масс труднее вызвать, «раскачать», но ее труднее и заглушить. Она основательней, устойчивей («инерционней»), без нее все усилия интеллигенции легко выхолащиваются[5]. Таким образом, если сравнивать оппозиционность интеллигенции и широких масс, то оказывается, что и та и другая имеюткак сильные, так и слабые стороны. Следовательно, необходимо их единство, способное укреплять силы прогресса и оптимизировать их воздействие на существующие обстоятельства и институты.
Тот факт, что оппозиционность не является «прирожденным» или имманентным свойством интеллигенции, не означает, что проблема ее оппозиционности малозначительна. Это не так. Интеллигенция – наиболее продвинутая часть населения. Развитый интеллект, глубокие знания, более высокая культура позволяют ей лучше понимать происходящее, яснее видеть противоречия, отчетливей ставить задачи общественного развития. Поэтому многие представители интеллигенции психологически распахнуты к оппозиционности, способны становиться инициаторами оппозиционных настроений и движений, разрабатывать программы последних, активно вести практически-политическую работу. Чаще всего именно в рядах интеллигенции берут начало различные оппозиционные взгляды, течения, установки. В то же время эта среда не всегда последовательна, устойчива, дисциплинированна. Все это в конечном счете связано с социально-экономическим положением интеллигенции. Она не имеет собственности, не является классом и вполне самостоятельной социально-политической силой. Ей обязательно нужно к кому-нибудь «прислоняться».
Сама интеллигенция и ее положение противоречивы. В условиях капитализма она представляет собой относительно целостный, но глубоко дифференцированный социальный слой. Части этого целого в дореволюционной России носили классовый характер, и не случайно выделяли интеллигенцию буржуазную, рабочую и крестьянскую. То есть части тяготели к различным классам, а в целом интеллигенция была между классами – прослойка. Это слово вызывает негативные эмоции у многих интеллигентов, оно не очень-то удачно, но вряд ли заменимо. Не случайно его использовал не только В. И. Ленин, но и А. Грамши. В советское время, когда интеллигенция стала значительно более гомогенной, термин потускнел, употреблялся реже и, главное, бездумнее. Но сейчас ситуация изменилась, и процесс дифференциации интеллигенции происходит все интенсивнее. Причем он переплетается со многими другими процессами. Интеллектуальная элита (так называемый политический класс, церковная верхушка, верхушка шоу-бизнеса, артистического и спортивного мира и т. д.) вживляется непосредственно в высший класс. Эти люди происходят из интеллигенции, связаны с ней, но все больше принадлежат к совсем другой социальной среде, выполняют специфические социальные функции. Что же касается основного массива интеллигенции, то в социально-экономическом отношении он подразделяется на три не очень четко очерченные части: сближающиеся с буржуазией, близкие к трудящимся классам и неориентированные.
Эти соображения важно учитывать, потому что оппозиционность интеллигенции – величина сугубо переменная. Например, если взять три русские революции в начале XX в., то нетрудно установить, что участие интеллигенции в каждой из них в количественном (число участников) и социальном (охват различных групп интеллигентов) отношениях было обратно пропорционально нараставшему участию рабочих и крестьян. В настоящее время оппозиционность интеллигенции по отношению к власти как никогда плюралистична. Она выступает в самых разнообразных формах: оппозиционность правая и левая, религиозная и светская, западническая и националистическая, монархическая, фашистская, сциентистская и т. д. и т. п. Очевидно, что это ослабляет интеллигенцию, мешает ее профессиональному и гражданскому развитию, порождает множество иллюзий и отнюдь не способствует прогрессу общества.
Преодолима ли эта ситуация? Пока обществу присущи глубокие противоречия, изжить ее полностью невозможно. Следовательно, отношение интеллигенции к тому, что происходит в России, неоднозначно. Власть стремится привлечь на свою сторону как можно большую часть интеллигенции, сократить ее оппозиционное крыло, воздействовать на ее нейтральные, пассивные элементы, с тем чтобы повести их за собой. Противостоящие власти политические силы преследуют альтернативные цели. В то же время интеллигенция, будучи расколотой, остается все же относительно единым социальным слоем и является как объектом, так и субъектом социально-политической борьбы.
В таких условиях может быть востребована способность интеллигенции и к конструктивной трудовой (= позитивной), и к оппозиционной (= негативистской) деятельности. Вопрос о соотношении той и другой решается в зависимости от объективных обстоятельств и от состояния борьбы между силами, являющимися носителями указанных тенденций. Представителям различных отрядов интеллигенции, выделяемых по их ориентациям (лояльные –оппозиционные – промежуточные), присущи особые характеристики и черты[6]. Но нельзя ли вычленить такие общие качества интеллигенции, которые должны быть присущи ей и могут быть полезны для нее с точки зрения обеих альтернативных позиций?
Полагаю, что это возможно[7]. Но прежде чем говорить о таких качествах, необходимо решить вопрос об их носителях. Они уже назывались: интеллигенция, интеллектуалы, профессионалы. Но при этом речь шла в основном об интеллигенции. Это естественно: именно это понятие является традиционным для России. Но его необходимо соотнести с двумя другими. Социологов, занимающихся таким соотнесением, можно подразделить на два «разряда»:
– одни устанавливают, что в современных условиях даже мало-мальски развитое общество не может обойтись без социального слоя людей профессионального умственного труда высокой квалификации, требующего специального образования и выполняющего особенно сложные общественные функции. Данная страта как один из элементов социальной структуры общества выделяется на основе только объективных критериев. Это не означает, что она лишена субъективных признаков или что последние не имеют особого значения. Такие ее качества, как профессионализм, нравственность, эрудиция, развитый вкус и т. д., исключительно важны, и их исследование имеет огромное значение. Однако определять через них анализируемый социальный слой – значит впадать в чистейший субъективизм, создавать предпосылки для произвольных суждений о ней наподобие того, что в России интеллигенции не стало, потому что она не умирает за высокие идеалы, а выживает. Разные названия этого слоя (интеллигенция, интеллектуалы, профессионалы) отражают особенности форм одного и того же социального явления;
– другие конструируют некие образцы, идеальные типы и ищут их аналоги в действительности. Такая позиция напоминает этноцентризм. Среди российской гуманитарной интеллигенции с присущим многим ее представителям нарциссизмом широко распространено ошибочное мнение о несовместимости и противоположности российской интеллигенции, с одной стороны, и западных интеллектуалов и профессионалов – с другой. Часто встречаются гневные филиппики против интеллектуалов и профессионалов, число которых множится в российском обществе параллельно с интеллигенцией. Мы сталкиваемся с социальной иллюзией: задачи сегодняшнего дня хотят решить силами интеллигенции дореволюционной или советской формации.
Хотя соотношение и смена трех указанных форм исследованы недостаточно, считаю возможным предположить, что история, не исключая их сосуществования, расставила их в следующем индификационном порядке: интеллигенция – интеллектуалы – профессионалы. Причем они имели и имеют свою географию (зоны преимущественного распространения) и арифметику (масштабы распространения). Естественно, что этим характеристикам присущ национальный или цивилизационный аспект.
На Западе в последние десятилетия наиболее употребитель-ным стал термин «профессионалы» (У. Гуд, Р. Холл, М. Ларсен, Э. О. Райт, Д. Голдторп), который потеснил ранее господствовавшую категорию «интеллектуалы» (А. Грамши, М. Фуко и др.). Профессионалами называют социальный слой, аналогичный российской интеллигенции. Слово «интеллигенция» там тоже используется (К. Мангейм, А. Гоулднер), но гораздо реже, чем в России. Нельзя не обратить внимание на то, что лексические тонкости в известной степени отражают ментальные особенности конкретных социумов. Интеллигенция – социальный слой, интегрирующий своих членов. Профессионалы – термин, оттеняющий значимость индивидуальной компоненты такого же слоя на Западе. Чтобы объяснить, что интеллектуалы или профессионалы образуют социальный слой, требуются специальные средства. Например, М. Фуко писал: «многоликое сообщество интеллектуалов»[8]. Сейчас пишут – «социальная группа профессионалов».
Все это подчеркивает, что тождество рассматриваемых понятий весьма относительно и их смена (замена) – дело достаточно деликатное. Это важно иметь в виду, так как предпринимаются попытки традиционное для России понятие «интеллигенция» заменить, ничтоже сумняшеся, термином «профессионалы». Так, О. И. Шкаратан и С. А. Инясевский пишут: «Авторы (имеется в виду коллектив авторов под руководством В. А. Мансурова. – В. Б.) убедительно показали, что при исследовании профессиональных групп целесообразно отказаться от доминирующего в отечественной литературе употребления категории “интеллигенция” – категории многозначной, означающей неопределенность системных границ и тянущей за собой идеологически нагруженные наслоения, и замены ее на принятый в мировом обществознании однозначный термин “профессионал”, “социальная группа профессионалов”»[9].
На деле В. А. Мансуров доказывает нечто едва ли не противоположное. В резюме к одному из своих докладов он отмечает: «Обогащение российской социологии возможно посредством адаптации теоретических конструктов западной социологии профессий к отечественным реалиям. Привнесение в современное российское общество “логики рынка” делает закономерным сопоставление опыта исследований “интеллигенции” в СССР и России с изучением профессионалов в англо-американской социологии. Объектом исследования в каждом из этих научных направлений служат работники высококвалифицированного умственного труда, имеющие дипломы о высшем образовании. Включение категориального аппарата социологии профессий позволит существенно расширить эвристические возможности исследованийгрупп интеллигенции, а также будет способствовать проведению кросскультурных эмпирических исследований. На основе совмещенной методологии, а именно нашего подхода к исследованиям интеллигенции и западной социологии профессиональных групп мы провели ряд исследований профессиональных групп российской интеллигенции, их трансформации в новых социальных условиях»[10].
Замена интеллигенции социальной группой профессионалов стимулируется двумя основными причинами. Во-первых, это рецепционный подход к социальной структуре российского общества. У нас все должно быть как на Западе – средний класс, включающий в себя профессионалов, а не какую-то интеллигенцию. Более того, оказывается, и в советское время существовал средний класс, но не интеллигенция: от дурных привычек надо отвыкать… Во-вторых, немаловажное значение имеют и идеологические соображения. Профессионалы – имя политически нейтральное, ошибочно полагают многие российские обществоведы, близкие по духу к так называемому политическому классу. (Это не интеллигенция, запятнанная в прошлом участием в революционных событиях, единством с трудящимися классами и т. п.) То есть очищение понятийного аппарата от идеологического «налета» осуществляется по вполне идеологическим соображениям.
О. И. Шкаратан и С. А. Инясевский сопоставляют менеджеров и профессионалов. Те и другие – наемные работники, отличающиеся от предпринимателей[11] и рабочих. Но они различаются и между собой. Чем же? Главным образом, содержанием и характером труда. Менеджеры заняты организаторской деятельностью в управлении, для чего собственники наделяют их определенными полномочиями. Отмечается также, с ссылками на Д. Голдторпа, что между менеджерами и собственниками существуют особые отношения: «первые служат интересам последних и вознаграждаются привилегированной по сравнению с другими работниками позицией». Многие менеджеры совмещают функции управления и владения предприятиями. Что же касается профессионалов, то по отношению к ним никакие социально-экономические поблажки не допускаются. Соавторы пишут: «С учетом реальной социальной ситуации в современной России, к профессионалам нами отнесены те экономически активные члены общества, которые занимают рабочие места преимущественно исполнительского умственного труда, требующего для своего осуществления образования не ниже высшего, и имеют соответствующие квалификационные дипломы»[12].
Полагаю, что основное социальное различие между менеджерами и профессионалами Шкаратан и Инясевский не раскрывают. Чтобы убедиться в этом, обратимся к одному из тех положений, которые несут настолько большую теоретическую нагрузку, что отечественные социологи чаще всего их старательно обходят. Это слова о членах пролетариата, то есть всех тех, «кто являются лицами наемного труда или наемными рабочими, не обладающими, не управляющими (подчеркнуто мной. – В. Б.) средствами производства»[13]. Британские социологи считают, что те, кто управляют средствами производства, участвуют в эксплуатации трудящихся, одновременно в известной степени сами ей подвергаясь. Профессионалы с пресловутым исполнительским трудом относятся к трудящимся, менеджеры, в той или иной степени, – к участникам эксплуатации. Российские социологи, возвестившие обществу о клас-се наемных работников, как правило, данной границы не видят. Мотивы этого явления могут быть различными, но их объективно идеологический характер несомненен.
Возвращаясь к высказанной выше мысли о возможности вычленить такие общие качества интеллигенции, которые должны быть присущи ей и могут быть полезны для нее с точки зрения как трудовой, так и оппозиционной деятельности, я хотел бы остановиться на трех взаимосвязанных задачах.
Прежде всего это необходимость обратить особое внимание на повышение профессионализма российской интеллигенции. Дело не в том, чтобы переименовать ее в социальную группу профессионалов, а в том, чтобы поднять уровень ее культуры и подготовленности к практической деятельности. Несомненно, что в этом плане сейчас немало делается. Однако многие новшества вызывают сомнения и требуют оперативного контроля. Например, внедряемая ступенчатая структура высшего образования наряду с позитивными следствиями может привести и к негативным результатам[14]. Достаточно ли перестройка высшей школы учитывает советские и российские традиции? Эта перестройка осуществляется в интересах бизнеса, но всегда ли последние соответствуют потребностям развития нашего материального и духовного производства? И до приобщения российской высшей школы к Болонскому процессу имели место значительные диспропорции между ее функционированием и нуждами народного хозяйства. Не усугубятся ли эти диспропорции, а также противоречия между интересами России, с одной стороны, и интересами, порождаемыми глобализацией и эгоистическими побуждениями («утечка мозгов» и т. п.), с другой стороны, между потребностями развития продвинутых и отстающих регионов и отраслей?
Далее, российской интеллигенции присущ дефицит интеллигентности, что породило тему «образованщины» и «образованцев». Интеллигентность – совокупность субъективных свойств интеллигенции, определяющая уровень ее развития. Вуз должен формировать интеллигентного специалиста. В очень многих вузах эта задача не решается и даже не ставится. Это наносит огромный ущерб как обществу, так и интеллигенции.
Само понятие интеллигентности весьма сложно. Не вдаваясь в детали[15], отмечу, что особенно острым является вопрос о центрировании интеллигентности. Господствует точка зрения, что ее становым хребтом является нравственность. Решительно с этим не согласен еще и потому, что нравственность не в меньшей степени (хотя в несколько иной форме) должна быть присуща и всем другим социальным группам, и потому, что такой взгляд берет интеллигенцию как нечто статичное, а между тем она сегодня отнюдь не такая, какой была в конце XIX или в середине XX вв. Важнейшей чертой интеллигентности, своеобразным ключом к системе ее характеристик ныне и является профессионализм, с которым тесно взаимосвязаны эрудиция и интеллектуальность, творчество и новаторство, патриотизм и чувство вкуса, и т. д. и т. п.
Профессионализм органично включает в себя профессиональную этику. К интеллигентским профессиям предъявляются особые нравственные требования, уровень соответствия которым в настоящее время у значительной части интеллигенции, к сожалению, резко снизился. Чтобы успешнее противостоять этой тенденции, нравственные требования к интеллигенции надо связывать с правовыми требованиями. Отсюда велико значение поведенческих кодексов профессиональных сообществ. Конечно, их роль различна, к тому же не у всех профессиональных групп интеллигенции такие кодексы имеются. Но в принципе они необходимы, причем важно иметь в виду, что установления такого рода не только способствуют повышению эффективности профессиональной деятельности, но и являются мерилом нравственности интеллигентов.
Верно, что профессиональная этика несводима к функции повышения эффективности специализированной деятельности, что ей присуща и социальная миссия. Различая эти аспекты, их нельзя противопоставлять. Одной из форм их интеграции является призвание интеллигента. Вызывает сомнения следующее положение: «В век “массовизации” профессиональной деятельности призвание перестает быть безусловной доминантой этического сознания профессионала, уступая место прозаическому функционализму. Это связано и с тем, что в эпоху широкой образованности открываются возможности сравнительно легкого перехода от одного вида профессиональной деятельности к другому (призвание вряд ли имеет множественное число). Не столько уменьшается число людей, воспринимающих свою жизнь как служение, сколько их доля в общем массиве профессионалов становится менее заметной, в меньшей степени оказывается объектом морального выбора: призвание не поддается тиражированию»[16]. Однако действуют и противоположные тенденции. Ослабели, но не исчезли нравственные традиции русской и советской интеллигенции. Призвание имеет силу примера. Интеллигенты, которые видят в работе смысл своей жизни, пользуются авторитетом и уважением. Разумеется, воздействие фактора призвания требует усилий, и здесь огромную роль играют деловая организация и общественная самоорганизация интеллигенции, которые способны во многом определять ее позиции как в трудовой, так и в оппозиционной деятельности.
Подход В. И. Бакштановского и Ю. В. Согомонова к призванию – пример того, к чему ведет необоснованная замена понятия интеллигенция на понятие профессионалы. К деструктивным следствиям ведет и неадекватное отношение к ряду других проблем. В результате как бы исчезают важные общественные задачи, ослабевает внимание к существенным вопросам, искажается их решение. Вот письмо, опубликованное в одной из центральных газет. Читатель писал: «Мало кому в современной России удается держать должную высоту моральной планки, когда вокруг толкуют только о деньгах. Понятно, что интеллигентность – устаревшее понятие сегодня…» Хорошая иллюстрация к тому, что происходит, когда в центр интеллигентности ставится нравственность! Исчезновение интеллигентности облечено в письме в поэтическую форму: невесомая, словно тень. А между тем читатель описывает лишь угасание старого представления об интеллигентности. Разумеется, ее нельзя мерить на фунты. Но сегодня это нечто гораздо более весомое и мускулистое, чем некогда.
Некоторые аспекты интеллигентности, ее эволюция и отдельные черты явно недостаточно исследованы. Однако важно иметь в виду, что компоненты интеллигентности тесно переплетены и взаимосвязаны, из чего неизбежно вытекает большое многообразие их версий, комбинаций у разных групп интеллигенции и особенно у отдельных интеллигентов. Иначе говоря, интеллигентность – явление, обнаруживающее себя в громадном разнообразии индивидуальных форм. Всякие попытки жестко «шнуровать» интеллигентность, чрезмерно ее регламентировать, подчинять общим принципам, отрицать право интеллигента на критическое и до некоторой степени скептическое восприятие действительности могут легко выливаться в насилие над личностью, в неуважение к ней. Однако интеллигентности чуждо и анархическое прочтение свободы и организованности, абсолютизация релятивистского отношения к ценностям и идеалам.
Наконец, принципиальное значение для обеспечения обоих вариантов поведения интеллигенции имеет усиление ее гражданской активности. Но что такое гражданская активность? Одна из модификаций социальной активности. Понятие «гражданская активность» имеет два значения: охватывает или совокупность актуальных в данный момент аспектов социальной активности, или политическую и правовую самодеятельность людей. Вопрос о гражданской активности интеллигенции не только не изучен российскими социологами, – он ими предельно запутан. Прежде всего это связано с субъективистским толкованием слоя носителей умственного труда высокой квалификации, выполняющего наиболее сложные общественные функции. Поэтому формы, в которые облачена его жизнедеятельность – интеллигенция, интеллектуалы, профессионалы, – различают главным образом по произвольно толкуемым субъективным признакам, выдаваемым за критерии существования интеллигенции. В итоге оказывается проще простого ее перечеркнуть, отказать ей в праве на социальное существование или отнести как социальную группу профессионалов к несуществующему среднему классу. Что же касается последнего, то его в России в значительной степени затем искусственно и конструируют, чтобы погасить рост оппозиционности интеллигенции, утопить ее оппозиционность в болоте гражданской суетливости. Посмотрим, как рисуют гражданское лицо среднего класса социологи, усилия которых сыграли особую роль в утверждении мнения, что этот класс возник и очень полезен для нашего общества. По словам члена-корреспондента РАН М. К. Горшкова и профессора Н. Е. Тихоновой, среднему классу присущи отказ от солидарности, скрепляющей гражданское общество, безразличие к политике, политическая апатия, поддержка власти в обмен на возможность заниматься своими делами и т. д.[17] Не случайно говорят: «Интеллигенция vs средний класс». Впрочем, точнее было бы сказать: «Средний класс vs интеллигенция».
Многие острые проблемы российской интеллигенции, которые лежат в основе ее оппозиционности, в результате ее включения в средний класс, где она перемешивается с другими слоями населения, затеняются, сдвигаются в сторону, забалтываются в СМИ, облачаются в иллюзорные формы. Однако никакие ухищрения не могут перечеркнуть противоречия, обусловленные реальными сложностями и трудностями.
Таким образом, в современных условиях российская интеллигенция неизбежно сочетает лояльные и оппозиционные аспекты в своей деятельности. При всей противоположности этих аспектов они в известной степени совпадают, что имеет положительное значение и для интеллигенции, и для общества, которое может и должно способствовать усилению данной тенденции. Своя доля участия в решении этой задачи есть и у социологии.
[1] Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. – 3-е изд. – СПб., 2003. – Т. 2. – С. 110.
[2] Ерман, Л. К. Интеллигенция // Советская историческая энциклопедия: в 16 т. – М., 1965. – Т. 6. – С. 115.
[3] Б. Н. Миронов различает чиновничество и интеллигенцию (см.: Миронов, Б. Н. указ. соч. – Т. 2. – С. 319).
[4] В некоторых случаях приводимые Б. Н. Мироновым факты в той или иной степени расходятся с его определением интеллигенции. Так, описывая результаты анкетного опроса учащихся городских гимназий, где доминировали дети интеллигенции (начало XX в.), он сообщает: «Среди мотивов выбора профессии гимназисты на первое место поставили интерес к делу (50 % опрошенных), на второе место – альтруистические соображения (15 %), на третье место – материальный расчет (7 %, в том числе менее 1 % стремились стать богатыми), на четвертое – честолюбие (2 % опрошенных)» (см.: Миронов, Б. Н. указ соч. – Т. 2. – С. 324–325). А где же пресловутая оппозиционность или хотя бы ее побеги?
[5] Отвечая тем, кто утратил веру в потенциал рабочего класса, Б. Ю. Кагарлицкий подчеркивает: без участия рабочего движения успешная борьба против капитализма не только немыслима, но и бессмысленна (см.: Кагарлицкий, Б. Ю. Восстание среднего класса. – М., 2003. – С. 317).
[6] Эти отряды выделены мной умозрительно. Они не являются объектом социологического анализа, который преимущественно направлен на выявление и утверждение, с одной стороны, процессов вырождения и исчезновения интеллигенции, а с другой – ее уникальности по сравнению с интеллектуалами и профессионалами, патриотизма, религиозности, верноподданничества и т. п.
[7] Истоки такой возможности обусловлены тем, что противоположные тенденции в жизнедеятельности интеллигенции при всей своей альтернативности неизбежно совместимы – в той или иной степени, форме и т. п.
[8] Фуко, М. Интеллектуал в законе // Независимая газета. – 2002. – 3 октября.
[9] Шкаратан, О. И., Инясевский, С. А. Социально-экономическое положение профессионалов и менеджеров // Социологические исследования. – 2006. – № 10. – С. 19.
[10] Мансуров, В. А. Социология профессиональных групп: методология и опыт исследований // Социально-стратификационная дифференциация российского общества: материалы междунар. науч. конф. (25–26 мая 2006 г.): в 2 т. – М. – Улан-Удэ, 2006. – Т. I. – С. 28–29.
[11] Судя по тексту, предприниматели для соавторов – синоним капиталистов. Но эти понятия совпадают лишь частично. Не все капиталисты суть предприниматели, не все предприниматели суть капиталисты.
[12] Шкаратан, О. И., Инясевский, С. А. Указ. соч. – С. 17–18.
[13] Большой толковый социологический словарь: в 2 т. / пер. с англ. – М., 1999. – Т. 2. – С. 118.
[14] Обоснованные опасения на этот счет высказаны М. Н. Руткевичем (см.: Руткевич, Н. М. Образованность в постсоветской России: противоречивость процесса // Социологические исследования. – 2007. – № 12. – С. 21).
[15] См.: Беленький, В. Х. Проблемы современной российской интеллигенции. Опыт социологического анализа. – Красноярск, 2005. – Гл. 6.
[16] Бакштановский, В. И., Согомонов, Ю. В. Профессиональная этика: социологические ракурсы // Социологические исследования. – 2005. – № 8. – С. 3.
[17] Добрынина, Е. Им не хочется стать «средненькими» // Российская газета. – 2007. – 24 января.
О концепте интеллигенция в контексте русской культуры
Никто не может определить, что такое интеллигенция и чем она отличается от образованных классов. Надежда Мандельштам
1
Начнем с общего положения, сформулированного А. Ф. Лосевым: «Имя есть орудие понимания: это значит, что именуемая вещь раньше всего понимает сама себя, а затем и потому — ее понимает и всякая другая вещь». Если я сам себя не понимаю, то ни на какое имя я не смогу могу отозваться; если же я сам себя понимаю, то я откликнусь только на то имя, которое полагаю своим собственным. В таком случае на имя интеллигент откликнется тот, кто понимает себя как интеллигента, относит себя к интеллигенции. И вот интересный факт: один из мемуаристов воспоминает о своем разговоре с А. Ф. Лосевым:
— Ну а ваше мировоззрение разве не интеллигентское? — вступился я за интеллигенцию.
— Толстой был интеллигентом, — сказал он резко. — Ленин был интеллигентом, а у меня свое — лосевское.
В этих словах много удивительного. С одной стороны, Ленин, как всем известно, относился к интеллигенции весьма враждебно и, по воспоминаниям Горького, нелестно выразился о ней в том смысле, что она не мозг нации, а говно. С другой стороны, Лосев, один из виднейших русских философов, не считает себя интеллигентом, в то же время признавая таковыми Толстого и Ленина (ленинский негативизм в отношении интеллигенции Лосев считал, видимо, взглядом изнутри). Если Лосев не отзывается на имя интеллигент, понимает себя как не интеллигента, значит, в этом имени есть такой смысл, который не позволил Лосеву отождествить себя с ним. Что же это за смысл?
Слово интеллигенция является одним из важнейших концептов русской культуры XIX — XX веков, ему посвящена словарная статья в «Словаре русской культуры» Ю. С. Степанова, в которой содержится весьма ценный материал по семантической истории слов интеллигенция и интеллигент. Вместе с тем в этой статье есть одно неверное положение, которое, однако, искажает всю картину и не позволяет дойти до полноты исчерпания смысла слова интеллигенция и решать герменевтические загадки, подобные высказыванию Лосева о себе, Толстом и Ленине. Поэтому для нас будет естественно начать наш анализ с того, что уже отмечено этим автором, а затем перейти к тому, что им осталось незамеченным или неверно, на наш взгляд, истолкованным.
Лат. intellegentia является переводом греч. ‘сознание, понимание в их высшей степени’. На латинской почве, например у Боэция, слово intellegentia означает высший разум, это предикат Божества; Божественная интеллигенция — это высшая точка познания, взятая в универсальном масштабе (Константы 611).
Одно из наиболее полных учений об интеллигенции находим у последнего схоластика — Николая Кузанского. Он рассуждал так. Из ничего ничего не возникает, поэтому нужно постулировать абсолютную возможность бытия всего; эта возможность вечна и является потенцией всего в мире; эта абсолютная возможность существует в Боге и есть Бог, ибо Он есть первоначало всего и рядом с ним не может быть другого абсолюта. Возможное бытие становится действительным только через акт, «поскольку ничто не способно само себя перевести в актуальное бытие, иначе оно оказалось бы своей собственной причиной: оно было бы прежде, чем было». Ту силу, которая делает возможность действительным бытием, одни философы называли умом, другие интеллигенцией, третьи мировой душой, четвертые судьбой; христиане же называют ее Словом: «Действующая, формальная и целевая причина всего есть Бог, созидающий в едином Слове все сколь угодно различные между собой вещи» . Только философы, недостаточно наставленные в Божественном Писании, могли думать, что между Богом и конкретным миром есть некий посредник — ум, мировая душа и т. п. Таким образом, в христианском понимании интеллигенция есть Бог-Слово, вторая ипостась Божественной Троицы. Бог-Слово, воплотившись в ипостаси Иисуса Христа, основал на земле Церковь; Христос был и остается Главой Церкви. Следовательно, здесь, на земле, Церковь есть носительница божественной интеллигенции: ей вручены Откровение и благодатные дары, благодаря которым Церковь наделена высшей способностью понимания, или интеллигенцией. Итак, сигнификатом слова интеллигенция является абсолютное понимание, а его денотатом в христианской философии было второе Лицо Божественной Троицы — Бог-Слово, интеллигенция связана с Богом и Его земным телом — Церковью. К сожалению, Ю. С. Степанов не уделил этому должного внимания и потому совершил ошибку, когда писал, что концепт интеллигенции в том виде, который он приобрел у Боэция, «перешел в немецкую классическую философию и был развит в системах Шеллинга и Гегеля» (Константы 611). Ю. С. Степанов слишком легко перешел от Средневековья к Новому времени. Для средневекового богослова Бог вне мира, трансцендентен ему, поэтому интеллигенция всегда имеет божественное происхождение: интеллигенция, ум, разум — это одно из имен Божиих; божественным разумом на земле обладает лишь Церковь. Система же Гегеля — это система имманентного панлогизма. Нет ничего трансцендентного, действительно существует только Абсолютная идея, имманентная миру, а мир — инобытие идеи, Бог же — не более чем понятие, выражающее то же содержание, что и Абсолютная идея, только на недостаточно проработанном языке религии. В гегелевском имманентизме, или монизме, как и языческом пантеизме, нет дистанции между Творцом и творением, вследствие чего концепт интеллигенции наполняется принципиально новым содержанием, поэтому неверно утверждение Ю. С. Степанова, что у Канта и Гегеля это слово имеет то же значение, что и у средневековых авторов.
Оторвавшись от Бога и Церкви в условиях новоевропейской культуры, концепт интеллигенции начинает свои «блуждания» в поисках своего носителя. Если сигнификат этого слова остается в общем-то неизменным (способность понимания, самосознания), то его денотат был исторически изменчивым. В переменах денотата, собственно, и заключается история этого концепта. Кого называли и называют интеллигенцией? — вот в чем вопрос.
У Гегеля интеллигенция есть общечеловеческая способность умозрительного постижения вещей (Константы 613). Известный историк Гизо говорит о «силе общественного разума-интеллигенции», которая, не имея оформленных средств проявления, тем не менее «оказывает принудительное воздействие на правление страной: общераспространенные идеи обладают принудительной силой» (Константы 612). Маркс говорит о народной интеллигенции как о самосознании всего народа: интеллигенция — это самосознание народа, а ее носитель — весь народ (Константы 613).
Теперь перейдем в Россию. Наверное, первое употребление слова интеллигенция находим у В. А. Жуковского, вероятно, позаимствовавшего его у кого-то из своих немецких учителей, в дневниковой записи от 2 февраля 1836 г: «Через три часа после этого общего бедствия … осветился великолепный Энгельгардтов дом, и к нему потянулись кареты, все наполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которые у нас представляют всю русскую европейскую интеллигенцию». У Жуковского носителем интеллигенции оказывается уже не народ в его целом, а его культурный слой, европейски образованная элита общества.
У всех рассмотренных авторов есть одна общая черта — это секуляризация концепта интеллигенции и, вследствие этого, попытки «привязать» его к какому-то носителю.
Новый носитель интеллигенции как высшего самосознания народа объявился в Польше. На польский язык как источник происхождения слова интеллигенция впервые указал В. В. Виноградов: «Слово интеллигенция в собирательном значении ‘общественный слой образованных людей, людей умственного труда’ в польском языке укрепилось раньше, чем в русском… Поэтому есть мнение, что в новом значении это слово попало в русский язык из польского». В. В. Виноградов высказался очень осторожно, очевидно, не имея фактических данных для подтверждения этого мнения. Усилиями А. К. Панфилова такие данные были найдены в русской периодической печати, в которой слово интеллигенция в ироническом употреблении появляется незадолго до польского восстания 1863 — 1864 гг. и активизировалось во время этого события. Так, в журнале «Вестник Юго-западного и Западного края» (Киев, 1862, т. II, ноябрь. С. 128) в статье «Два-три слова о сочувствии патриотическим движениям и притязаниям поляков» читаем: «Ну стоят ли подобные люди комплиментов и даже ухаживанья, с какими относятся к ним некоторые из наших соотчичей — и устно и письменно? А между тем поляки (и друзья их) считают себя интеллигенциею края. Нужно не иметь никакой интеллигенции, чтобы считать их интеллигенциею вообще и интеллигенциею края в частности» . Характерно, что в южнорусской прессе к русским слово интеллигенция не применялось, вместо него говорилось о классе русских образованных горожан, русском образованном обществе. «Там же, где речь идет о поляках, слово интеллигенция употребляется регулярно». Газета «Санкт-Петербургские ведомости» (6 мая 1867 г.) писала: «Достаточно проехать по тем местностям, где царила польско-шляхетская интеллигенция, достаточно посмотреть на несчастного, голодного и забитого белоруса и литвина, чтоб безошибочно судить о том, какое влияние имела эта интеллигенция… Могут ли быть правильными экономические отношения там, где всякое бедствие масс служит источником самодовольства для интеллигенции, где эта интеллигенция готова часто пожертвовать своими собственными выгодами, лишь бы только … вооружить против существующего порядка местное население?». Вся напыщенность и весь гонор польского шляхетства выразились в этом хвастливом самоназвании: интеллигенция, что и вызвало ответную язвительную иронию русской печати.
Видимо, под влиянием польской интеллигенции в 60-е годы возникает и русская интеллигенция. «Только в России в период между 1845 — 1865 гг. совершается следующий этап в развитии концепта ‘Интеллигенция’: субъектом … исторического самосознания народа в процессе государственного строительства (? — А. К.) оказывается при этом новом понимании не абстрактный «разум», не «дух народа» и не весь народ, а определенная, исторически и социально вполне конкретная часть народа, взявшая на себя социальную функцию общественного самосознания от имени и во имя всего народа» (Константы 613-614). Что же это за группа, что Лосев отрицает свою принадлежность к ней? Ответа на этот вопрос у Ю. С. Степанова мы не найдем, однако он есть у авторов знаменитого сборника «Вехи» и у других русских философов; опираясь на эти труды, кратко осветим сущностные признаки интеллигенции.
Не может не вызвать удивления «факт» того, что интеллигенция в России появилась только в середине XIX века, словно в предыдущие девять веков государственного строительства России у нее не было носителя исторического самосознания народа. Конечно, это не так. На протяжении всей истории носителем исторического самосознания народа в России выступали государственная Власть и Церковь. Так было и в середине XIX века, но именно в это время у Власти и Церкви появился соперник — группа людей, которая сама себя назвала носителем исторического самосознания народа, интеллигенцией, то есть самозванная группа, сразу же занявшая антигосударственную и антицерковную позицию. Этот момент оппозиционности был конститутивным для русской интеллигенции, что отчетливо осознавалось и ею самой. Отвечая авторам «Вех», И. И. Петрункевич писал, что «русское общество» думает об интеллигенции иначе, нежели «веховцы»: «Духовный отец интеллигенции Белинский, затем Герцен, Чернышевский и Михайловский не только в свое время, но и сейчас в его сознании представляются яркими светочами среди царившего в России мрака; оно помнит их как людей, которые всею силою своего ума, таланта и любви к родине боролись с казенной церковью, с казенной государственностью, с казенной народностью …».
Можно ли назвать интеллигенцию, как это делает Ю. С. Степанов, социальной группой? Понятие социальной группы относится к сложной органической жизни общества: развитая общественная органика необходимо предполагает наличие таких социальных групп (сословий, классов, корпораций), как крестьянство, мещанство, дворянство, бюрократия, купечество, врачи, учителя, ученые, военные и т. д. Ни с одной из социальных групп, существовавших в общественном организме России в середине XIX века, интеллигенцию прямо связать нельзя. В социальном плане интеллигенция неуловима; из двух врачей, адвокатов или офицеров один становился интеллигентом только в том случае, если ставил интеллигентские ценности выше интересов своего органического сословия, класса или группы, то есть в случае аксиологического отщепления от социальной группы. О неорганичности, то есть внесоциальности интеллигенции писали многие русские мыслители, приведем лишь два высказывания: «Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований». О том же в отношении интеллигента Герцена писал Достоевский: «Герцен не эмигрировал, не полагал начала русской эмиграции, — нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались эмигрантами, хотя большинство не выезжало из России». Таким образом, всякий интеллигент — это отщепенец, и потому он вступает в противоречие с органической жизнью и историческим бытием общества и государства. Из этого противоречия было два выхода. Один заключался в том, чтобы оставить заемные идеи, изучать русскую жизнь и составлять о ней русские понятия; по этому пути, пути Пушкина и Гоголя, Киреевского и Хомякова, Достоевского и Лескова, Данилевского и Леонтьева, пошли немногие. Панургово стадо интеллигенции побрело за Белинским, Герценом, Писаревым, Чернышевским, Плехановым и Лениным, пытаясь переделать русскую жизнь в соответствии с чужими идеями.
Итак, на поставленный вопрос, кого назвать интеллигенцией, можно ответить, что это лишенная почвы асоциальная группа, или секта, отщепенцев.
Называя интеллигенцию не социальной группой, а сектой, мы имели в виду нечто большее, чем простую аналогию с церковным понятием. Как мы сказали, асоциальную, разночинную публику объединяло в нечто цельное идеология Революции. Суть Революции в предельно глубоком, духовном смысле выразил Ф. И. Тютчев: «Революция, если рассматривать её с точки зрения самого существенного, самого элементарного её принципа, — чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что вот уже 3 века принято называть цивилизацией Запада. Это современная мысль, во всей своей цельности, со времени разрыва её с Церковью. Мысль эта такова: человек, в конечном счёте, зависит только от себя самого как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть исходит от человека; всё, провозглашающее себя выше человека, — либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова».
На духовной почве Революции произрастали различные идеологии; в интересующее нас время, когда возникала русская интеллигенция, она связала себя с такой разновидностью революционной идеологии, как прогресс, чаще всего окрашенный в социалистические тона. При этом для русской интеллигенции прогресс и социализм были не гипотезой, а непререкаемой, абсолютной истиной, которой нужно было принести в жертву историческую Россию, впрочем, как им казалось, для ее же блага. Так, Достоевский, вспоминая об увлечении социализмом в 40-е годы, писал: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райски-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». На эту черту псевдорелигиозности уже неоднократно обращалось внимание. Так, Н. Бердяев утверждал: «Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп».
В связи с последним свойством интеллигенции стоит ее непримиримая ненависть к традиционным религиям, и прежде всего Православию. Традиционные религии, с точки зрения интеллигенции, это предрассудок, пережиток прошлого, исчезающий в свете данных позитивной науки, а Православная Церковь — это реакционный институт, стоящий на пути прогресса. Отсюда следует, что уничтожение Церкви есть необходимое условие для продвижения России по пути прогресса.
Что касается отношения интеллигенции к народу, то, с одной стороны, интеллигенция с утомительным постоянством твердит о народном благе как высшей цели своей деятельности, с другой стороны, народ никогда не отвечал интеллигенции взаимностью. Очевидный факт стойкой неприязни народа к интеллигенции не только не осмыслен, но и не отмечен в словаре Ю. С. Степанова, а его одного достаточно, чтобы задуматься над вопросом о том, можно ли считать субъектом исторического самосознания народа группу людей, не любимую самим народом? Дело в том, что интеллигенция никогда не знала горячо любимого ею народа, относилась к нему как к внешнему объекту. Парадокс интеллигентского отношения к народу заключается в том, что во имя своего идола можно принести любое количество жертв, хотя сам по себе идол понимается как высшая форма служения благу народа. Этот парадокс был раскрыт Достоевским в образе Раскольникова и, с еще большей силой, в образе Шигалева. Вот, например, стишок Добролюбова «Чернь»; в нем с циничной откровенностью олицетворенный Прогресс гонит от себя голодную чернь, хотя сам по себе прогресс понимается как увеличение благ для все большего количества народа:
Подите прочь! Какое дело
Прогрессу мирному до вас?..
Жужжанье ваше надоело,
Смирите ваш строптивый глас.
Прогресс — совсем не богадельня.
Он — служба будущим векам;
Не остановится бесцельно
Он для пособья беднякам.
Между интеллигенцией и образованным слоем русских людей лежит пропасть, и не заметить ее может только слепой. Единственное, что их сближает, — это наличие образования, однако сами интеллигенты усиленно подчеркивали, что далеко не всякий образованный человек может быть причислен к интеллигенции. Так, Юрьевский писал: «Слой образованных русских людей и русская интеллигенция — понятия не совпадающие. Образованный человек, ученый, профессор, мог быть в рядах русской интеллигенции. Мог и не быть. Л. Толстого, с его отрицанием государства, цивилизации, вероятно, нужно к ней причислить, но в нее уж никак нельзя вставить Ключевского или Чичерина». Отношение к Традиции — вот что разделяло и разделяет интеллигенцию и русский образованный слой: «Только беспочвенность как идеал (отрицательный) объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по своему тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и во всяком случае прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский и множество других. Все они почвенники — слишком коренятся в русском национальном быте и в исторической традиции». Федотов прав: великое множество образованных русских людей, истинных творцов русской культуры, никак нельзя причислить к русской интеллигенции — Ломоносов, Державин, Карамзин, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Хомяков, Киреевский, Тютчев, Гончаров, Фет, Достоевский, Леонтьев, С. Соловьев, Вл. Соловьев, Чайковский, Бородин, Мусоргский, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Левитан, Лобачевский, Чебышев, Менделеев, Павлов, Ключевский, Розанов, Блок, Ахматова и многие и многие другие.
Что касается физического облика, по которому можно было опознать интеллигента, то на этот счет есть красноречивое свидетельство князя С. Щербатова: «Сам человеческий облик известной категории людей, идейных, изъеденных интеллигентской идеологией, носил печать этого удушливого, безотрадного «антиэстетизма». Нечесаные волосы, перхоть на потертом воротнике, черные ногти, неряшливая одежда, вместо платья (со словом туалет был сопряжен некоторый одиум) неопределенного цвета блузы, вместо прически — либо по-студенчески остриженные волосы, либо забранные на затылке неряшливо в чуб, — подобного вида публика в фойе театров, где шли «идейные» пьесы, залы с лекциями и определенного типа клубы». Несомненно, этот облик имел знаковый характер: всем своим видом интеллигенты говорили: нам некогда заботиться о прическе, костюме, гигиене, когда страдает народ и надо спасать Россию.
Итак, если к концепту интеллигенции подходить не с абстрактных, внеисторичных позиций (что до некоторой степени свойственно Ю. С. Степанову), а с конкретно-исторических, то интеллигенцией можно назвать одержимую духом отрицания Традиции исторической России асоциальную, псевдорелигиозную, космополитическую секту отщепенцев, самозванно провозгласившую себя носителем самосознания народа, взявшую на себя ответственность за судьбу России и ее народов.
2
После переворота 1917 года, когда общий враг был повержен, между интеллигентскими сектами завязалась борьба за власть, победителем в которой вышла самая экстремистская секта интеллигентов — большевицкая, которая расправилась как с внешними соперниками, так и с внутренней оппозицией. После ее победы практически выявились все сущностные черты интеллигенции: антигосударственность выразилась в разрушении исторического русского государства и физическом уничтожении ее носителей — чиновников, офицеров и, наконец, самого Государя; антицерковность выразилась в отделении Церкви от нового «государства», в уничтожении священников, в ограблении храмов, в преследовании верующих; антинародность интеллигенции выразилась в терроре против всех слоев населения, особенно против крестьян.
Большевицкая секта, или партия, что по внутренней форме почти одно и то же, самозванно объявила себя не только интеллигенцией, но еще и честью и совестью, к тому же не одного народа, а всей эпохи, то есть заявила претензии на Абсолютную истину. Однако, как сказал Оруэлл, все люди равны, но некоторые равнее, стало быть, не все члены партии могут быть носителем интеллигенции, а только те, которые равнее, то есть члены ЦК; однако по той же логике и среди членов ЦК некоторые оказались равнее, они-то, члены Политбюро, оказались носителями интеллигенции; но и среди членов Политбюро один оказался равнее, он, великий и гениальный, и стал окончательным и единственным носителем интеллигенции. Напрасно Ю. С. Степанов думает, что культ личности Сталина — это вырождение идеи критически мыслящей личности. Так называемый «культ личности» — это не что-то специфически большевицкое, это логика развития любой псевдорелигиозной секты: на место личного Бога Творца и Промыслителя мира непременно придет человекобог. Если, по Тютчеву, «мысль» Революции есть «апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова» (о чем, но с другой внутренней интенцией, писал эсер Н. Д. Авксентьев еще в 1906 году: «Перед нами встает в конце концов идеал свободной самоопределяющейся, автономной, моральной личности, черпающей свой закон из собственной своей разумной воли» — Константы 615), то в личности Сталина эта «мысль» и этот «идеал» нашли свое полное воплощение, личности свободной, самоопределяющейся, автономной, только, конечно, не моральной, а вполне аморальной, ибо мораль, по определению, связывает, ограничивает личность внеличным или сверхличным законом.
Слишком хорошо подумает о прочей, беспартийной интеллигенции тот, кто решит, что она, хотя бы внутренне, была в оппозиции к большевицкой секте, как говорится, держала кукиш в кармане; напротив, можно констатировать почти полное единодушие в «блоке» партийных и беспартийных интеллигентов. Вот пример — письмо Пастернака Александру Фадееву, написанное сразу после смерти Сталина: «Дорогой Саша! Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина», мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе. Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого события, и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей обобщенности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа… Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля стала родиной чистой мысли, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!».
Постепенно победившая псевдорелигиозная секта большевиков оформляет себя как псевдоцерковь. У нее есть своя «божественная» троица — Маркс, Энгельс и Ленин. У нее есть свое «священное» писание — так называемые «первоисточники» марксизма-ленинизма. У нее есть свое «царство божие» — коммунизм. У нее есть свои «мощи» — чучело Ленина, выставленное для поклонения. У нее есть свои «святые» — пантеон «пламенных революционеров». У нее есть свой «антихрист» — мировая буржуазия с ее царством капиталистической тьмы. У нее есть свой чин «покаяния»: на партсобраниях на согрешивших, но «разоблачившихся» перед партией членов налагалась «епитимья» партвзысканий. У нее есть свои «иконы» — многочисленные изображения вождя и его «апостолов» находились в каждом городе, в каждом учреждении. У нее было совершенно религиозное отношение к имени как к сущности, обладающей сакральной силой; с рациональной точки зрения невозможно понять, что значит театр имени ленинского комсомола или совхоз имени XXII съезда КПСС, но с метафизической точки зрения здесь имеет место акт усвоения силы определенного качества. У нее есть свои «крестные ходы» — ноябрьские и первомайские демонстрации. У нее есть свои «праздники», когда «совершается память» события, вождя или кого-то из его присных. У нее есть свои «мистерии», например, мистерия посвящения в октябрята, пионеры, комсомольцы, наконец, в члены партии; после испытательного кандидатского срока собрание «верующих» должно произнести решающее Аксиос! Эта подражательность христианским религиозным формам лучше, чем что-либо иное, показывает, что большевицкая интеллигенция вдохновлялась духом диавола — «обезьяны Бога».
С узурпацией государственной власти большевицкой сектой интеллигентов, объявившей себя умом (то есть интеллигенцией), честью и совестью эпохи, начинается довольно низкопробное языковое шельмование прочей интеллигенции, не попавшей во власть. Именно в это время при слове интеллигенция появляются определения вроде трусливая, жалкая, либеральная, дряблая, вшивая, гнилая; появляется слово интеллигентишка. Согласно словарю Д. Н. Ушакова, у слова интеллигент два значения: 1. Лицо, принадлежащее к интеллигенции. 2. То же, как человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями (презрит.). Вот она, психология российского интеллигента: на словах он храбрый радикал, на деле он подленький чиновник. Ленин (Ушаков I, 1214). Слово интеллигентский также имеет помету — презрит.
Отчего же Н. Мандельштам, вопреки очевидности, утверждала, что никто не может определить, что такое интеллигенция и чем она отличается от образованных классов? Тут нужно различать два процесса, один из которых протекал в русских эмигрантских кругах, другой — в СССР.
В эмиграции среди русских остро встал вопрос о роли и вине интеллигенции в Катастрофе 1917 года. Поскольку вина интеллигенции была очевидна, то интеллигенты-эмигранты попытались расширить значение слова интеллигенция до отождествления со всем образованным слоем. Смысл этого расширения вскрыл русский историк Н. Ульянов: «Такая подмена наблюдается в отношении слова интеллигенция. Его стараются употреблять не в традиционном русском, а в европейском смысле. Нет нужды объяснять, зачем понадобилось такое растворение революционной элиты во всей массе образованного люда и всех деятелей культуры. Мимикрия — явление не одного только животного мира. По той истеричности, с которой публицисты типа М. В. Вишняка кричат о «суде» над интеллигенцией, можно заключить, что суда этого боятся и заранее готовят почву, чтобы предстать на нем в обществе Пушкина и Лермонтова».
В СССР русский образованный слой был уничтожен, но никакое общество не может существовать без ученых, инженеров, экономистов, преподавателей, учителей, врачей. Подготовка нового образованного слоя была взята под жесткий контроль победившей большевицкой интеллигенции, поэтому этот слой мировоззренчески был скроен по интеллигентскому лекалу. Произошла диффузия интеллигенции и образованного слоя: большая часть людей, получивших высшее образование в 30-70 годы, в той или иной степени восприняла нигилистическое отношение к русской Традиции, особенно в отношении Православия и Самодержавия. Что касается русской национальной культуры, то нигилистическое отношение интеллигенции к ней выразилось в ее насильственно переинтерпретации: все деятели, которые минимально могли быть втиснуты в прокрустово ложе «прогресса», были объявлены «передовыми», «борцами за народное счастье» (которое наконец-то свалилось на народ в лице большевиков), а прочие преданы забвению — К. Леонтьев, В. Розанов, И. Ильин, И. Шмелев и множество других, представлявший подлинный цвет русской культуры. Все это хорошо знакомо изучавшим русскую литературу в советской школе. Этим нехитрым приемом интеллигенция как бы укореняла себя в почве русской культуры, а русская культура словно бы оправдывала интеллигентский погром России.
Однако позже, во время создания сталинской конституции, когда встал вопрос о социальной структуре советского общества, у слова интеллигенция появляется новый, социальный смысл. Разумеется, уже не может быть и речи о претензии на выражение «общественного самосознания от имени и во имя всего народа». Интеллигенция теперь — это «общественный слой работников умственного труда, образованных людей (книжн.)» (Ушаков I, 1215), то есть это пресловутая прослойка между рабочим классом и крестьянством, совокупность работников, чья профессия требует высшего образования и характеризуется высоким уровнем интеллектуализации труда. Определениями этой интеллигенции становятся трудовая, народная, советская. Никакой иной интеллигенции рядом с собой партия терпеть не намерена, и казалось, что интеллигенция в старом, указанном нами смысле слова становится историзмом; отныне и навсегда интеллигенцией называется совокупность пролетариев умственного труда. Однако история распорядилась иначе.
После того как любезное Пастернаку «какое-то как бы олицетворенное начало» отдало концы и наступило некоторое послабление во всех сферах жизни, особенно после ХХ съезда, внутри интеллигенции в социальном смысле слова вызревает интеллигенция в старом, псевдорелигиозном значении слова, происходит второе пришествие интеллигенции.
Политически активная часть интеллигенции еще целиком связывала себя с коммунистической религией, безуспешно пытаясь из бесовской хари вылепить человеческое лицо; это те, кого позже назовут «шестидесятниками», «детьми ХХ съезда» и кто потом станет «прорабами перестройки». Но наряду с ней возникла и иная интеллигенция, с легким налетом оппозиционности. Возникла интеллигентская субкультура, знаковыми фигурами которой стали не признанные партийным официозом стопроцентно советскими писатели и поэты Ахматова, Булгаков, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Бродский. Интеллигентская субкультура создала свой стиль, доминантой которого была подчеркнутая неофициальность: свитера, джинсы, бороды, «дикий» туризм, песни под гитару: подобно старообрядцам, интеллигенция уходила в леса и предавалась там пению так называемой самодеятельной песни, что можно расценить как аналог хлыстовским радениям; все это приобретало отчетливо семиотический характер, становилось знаком, по которому опознавались «свои». Возникают «свои» журналы («Новый мир»), «свое» кино (Иоселиани, Тарковский), даже «своя» наука (Лотман, Успенский). Труды этих ученых, конечно, не укладывались в официальную догматику и потому в глазах интеллигентов становились своего рода «священным писанием».
Итак, в России (тогда — СССР) в 50-60 годы самовозродился слой общества с сущностными чертами интеллигенции — беспочвенностью, отщепенством, антигосударственностью (причем отрицалось не только коммунистическое, но и русское историческое государство), антицерковностью и с самозванными претензиями на истину. Для превращения ее в псевдорелигиозную церковь, то есть секту, не доставало, во-первых, духовного лидера и, во-вторых, ясно сформулированного идеологического лозунга. И такой духовный лидер явился — это академик А. Д. Сахаров, который и сформулировал новый интеллигентский «символ веры» — права человека; в борьбе за них оформилась сравнительно небольшая активная группа интеллигентов, которых стали называть диссидентами. Совсем не случайно для обозначения этой активной группы интеллигенции был избран религиозный по происхождению термин: современный автор с псевдорелигиозным пафосом пишет: «В понятии интеллигенции, как оно оформилось в России, содержится нечто иное и бoльшее, чем «слой» или «социальная группа»; это в то же время еще и социальная функция, роль, притом представленная как миссия, окруженная ореолом долга и жертвенности. Это не просто группа образованных людей, но некая общность, видящая смысл своего существования в том, чтобы нести плоды образованности (культуры, просвещения, политического сознания и пр.) в народ и уподобляющая эту задачу священной (по меньшей мере, культурно-исторической) миссии…» Постепенно формируется новая интеллигентская «религия», «догматы» которой выражаются такими ключевыми словами, как гласность, демократия, правовое государство, многопартийность, рыночная экономика, открытое общество, права человека, общечеловеческие ценности, свобода, либеральные ценности.
Итоги второго пришествия интеллигенции известны: интеллигенция хотела как лучше, а вышло как всегда. В 1917 году победа интеллигенции привела не к «царству божию», а к царству антихриста с его Гулагом, так и в 1991 году победа интеллигенции обернулась царством уголовщины и пошлости. Интеллигенция «второго разлива» потерпела историческое поражение, как и интеллигенция «первого разлива», однако ничего не поняла и ничему не научилась. Вот слова журналистки Евгении Альбац: «Как же сейчас очевидно, что интеллигенцией на самом деле была крайне узкая группа людей, не позволявших себе (ни тогда, ни сейчас) собственное грехопадение объяснять действием внешних сил — режима, власти, КГБ — и принимавших на себя и вину, и ответственность за то, что происходило и происходит в стране» . Как видим, и после грехопадения, совершенного к тому же без участия внешних сил, все равно страсть как хочется «взять на себя ответственность». Как сказала Анна Ахматова,
И яростным вином блудодеянья
Они уже упились до конца,
Им чистой правды не видать лица
И слезного не ведать покаянья
В свете нашей реконструкции того, кого в контексте истории русской культуры называли интеллигенцией, действительно можно решить ту герменевтическую загадку, с которой мы начали изложение. Лосев не считал себя интеллигентом потому, что он член иной, Христовой Церкви, Господь же сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30). Быть членом «церкви» интеллигентов значит быть против Христа; для монаха Андроника это было невозможно, отсюда его резкая отповедь собеседнику. Понятны также и слова В. В. Розанова: «Пока не передавят интеллигенцию — России нельзя жить. Ее надо просто передавить. Убить» . Розанов понимал, что традиционная историческая Россия и Россия интеллигентская несовместимы, и пророчески предвидел, что торжество интеллигенции будет означать гибель России. Понятны и слова современного философа: «В 1917 году к власти пришли левые интеллигенты. В 1991 году их сменили правые интеллигенты. И те, и другие вызывают омерзение».
Таким образом, сообщество людей, названием и самоназванием которой было слово интеллигенция, есть продукт, во-первых, европейской секулярной культуры и, во-вторых, того своеобразия, которое она приняла в России. Это своеобразие заключалось, как уже сказано, в ее неоргагичности и, как следствие, в духе всеохватного отрицания русской Традиции — религиозной, государственной и культурной.
Примечания
- Первая публикация (в сокращении): Язык и ментальность. СПб., 2004. С. 111-123.
- Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997. С. 201.
- См.: Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1996. С. 204.
- Степанов Ю С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997. С. 610-628. (Далее -Константы).
- Николай Кузанский. Об ученом незнании. II, 8, 132. // Соч. в 2-х тт. Т. I. М., 1979.
- Там же. II, 8, 136.
- Там же. II, 9, 141.
- Там же. II, 9, 150.
- Жуковский В. А. Из дневников 1827 — 1840 годов. Публикация А. С. Янушкевича // Наше наследие, № 32, 1994. С. 46. На данную публикацию обратил мое внимание И. Г. Добродомов.
- Виноградов В. В. Историко-этимологические заметки. II. // Этимология. М., 1965. С. 113.
- Цит. по: Панфилов А. К. О слове интеллигенция // Вопросы языкознания и русского языка. М., 1970. С. 367.
- Там же.
- Там же. С. 370.
- Петрункевич И. И. Интеллигенция и «Вехи» // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 211.
- Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 408.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1873 г. Гл. II. «Старые люди».
- Тютчев Ф. И. Россия и Запад: книга пророчеств. М., 1999. С. 19.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1873 г. Гл. XVI «Одна из современных фальшей».
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 17.
- Цит. по: Башилов Б. История русского масонства. Вып. 16. М., 1995. С. 129.
- Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции. С. 409.
- Щербатов С. Художник в ушедшей России. М., 2000. С. 245.
- Континент. 1997. № 90. С. 213. Выделено мною — А. К
- Цит. по: Башилов Б. Указ. соч. С. 115.
- Читай — нимбом святости, ибо именно такова степень самолюбования и самопревозношения интеллигенции.
- Левада Ю. Интеллигенция // 50 / 50. Опыт словаря нового мышления. Под ред. Юрия Афанасьева и Марка Ферро. М., 1989. С. 128. Подчеркнуто мною — А. К.
- Альбац Евгения. Болезнь совести // Новая газета. 1999. № 8 (531).
- Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 292.
- Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 413.
Источник: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/kam_konc.php
Источник: http://involokolamsk.ru/novosti/neravnodushnyy_vzglyad/aleksandr-mihaylovich-kamchatnov-o-koncepte-intelligenciya-v-kontekste-russkoy-kultury
Что это было и что есть в «Скажи изиум!» Аксенова! на JSTOR
Il serait très difficile de mettre deux Individual d’accord sur la réponse a la question: «Qu’est-ce que l’intelligentsia russe?» La raison en est probablement que, à des époques différentes, le rôle de l’intelligentsia et son image dans la société ont changé, эмоциональным chaque niveau de l’intelligentsia et faisant de ce groupe hétérogène un groupe qui «n’est plus ce qu ‘il était «. Cette étude se концентрируется в начальных чертах caractéristiques de l’intelligentsia, после того как вы исследуете фасад, не отражающий романа Василия Павловича Аксенова Скажи изиум! Il y sera fait l’analyse de la Relations Entre l’intelligentsia et le KGB, ainsi que celle des specialités de la langue d’Aksenov et son влияние на эти отношения.В этой статье сравниваются особенности начальных характеристик и современников интеллигенции. L’œuvre d’Aksenov, écrite en 1983, suit l’évolution des changements qui se sont opérés au sein de l’intelligentsia du début des années 60 à la veille de la Perestroïka, faisant un portrait frappant des valeurs de ce groupe et de celles de la société de l’époque. Ce roman montre que l’intelligentsia приспосабливает работу сына к окружающей среде. Les changes qui en résultent peuvent cependant se révéler si puissants qu’ils sont capables, à leur tour, de modifier l’environnement.Le roman d’Aksenov est un remarquable ouvrage littéraire qui offre des base for comprendre les événements sociaux et politicaux de l’ex-URSS à la fin des années 80, début des années 90.
Информация о журналеКанадские славянские газеты / Revue canadienne des slavistes (CSP) были созданы в 1956 году. В 1967 году они стали выходить два раза в год, а в 1968 году стали выходить ежеквартально. Журнал является официальным изданием Канадской ассоциации славистов (CAS). CSP — это рецензируемый многопрофильный журнал, публикующий оригинальные исследования на английском и французском языках по Центральной и Восточной Европе.Он привлекает читателей со всего мира и ученых из различных дисциплин: язык и лингвистика, литература, история, политология, социология, экономика, антропология, география, фольклор и искусство. Журнал особенно силен в славянском языкознании; Русская литература и история; Украинская литература и история; Польская и балканская история и культура. В статьях хорошо сбалансированы темы модерна, раннего модерна и средневековья. Специальные тематические выпуски (или разделы) выходят регулярно и проходят сложную рецензию журнала.
Информация об издателеОсновываясь на двухвековом опыте, Taylor & Francis быстро выросла за последние два десятилетия и стала ведущим международным академическим издателем. Группа издает более 800 журналов и более 1800 новых книг каждый год, охватывая широкий спектр предметных областей и включая журнал. отпечатки Routledge, Carfax, Spon Press, Psychology Press, Martin Dunitz и Taylor & Francis. Taylor & Francis полностью привержены публикации и распространению научной информации высочайшего качества, и сегодня это остается основной целью.
Intelligentsia Elegy: американские интеллектуалы не согласны с принципами демократии.
Русский язык имеет богатые литературные традиции. Горстка русских слов проникла в английский agitprop , apparatchik , comissar , gulag , Kalashnikov , nomenklatura , pogrom, samizdat, vodka, и теперь kompromat . Но хотя русский язык выразителен, он в основном заемщик, а не заимодавец слов.Слово интеллигенция впервые появилось на английском языке в 1918 году, вскоре после революции в России. После этого он стал популярным. Чего не хватало в концептуальном инвентаре Запада в 1918 году, что нам пришлось импортировать иностранное слово из революционной России?
Интеллигенция, очень русская концепция, трудно определить с точностью. Россия всегда была кастовым обществом, а интеллигенция была особой кастой, состоящей из образованных людей, не подпадающих ни под одну из традиционных категорий — духовенства, дворянства, крестьян, торговцев или городского среднего класса.Но демаркационная линия для членства никогда не была четкой. Когда я был ребенком в Советском Союзе, я думал, что это хорошие евреи, которые читали книги, носили очки, заправляли рубашки и не глотали суп. В кругу моих родителей это были в основном инженеры и ученые, немного музыкантов и врачей. Ни у кого не было формальной связи с академическими социальными или гуманитарными науками, поскольку в СССР эти области были политическими минными полями, с которыми порядочным людям было трудно договориться.Но большинство из них, казалось, баловалось стихами или драматургами, и все могли цитировать большие отрывки из Евгения Онегина по памяти.
Понятие интеллигенции было легче определить отрицательно. Все, кто был связан с органами государственной власти — правительственные чиновники, правоохранительные органы, военные — выходили далеко за рамки. Членство в партии было дисквалификацией. Более чем случайный интерес к спорту, хотя сам по себе не дисквалифицирующий, вызывал серьезные подозрения. В конце концов, членство сводилось к самоопределению, определенному набору узнаваемых манер, фраз и привычек.Это была эстетическая поза. « Интеллигентность» »- качество принадлежности к интеллигенции — означало все, что воспринималось как противоположность отсталости, глупости, алкоголизма, ненормативной лексики, невежества и грязи провинциальной русской жизни. Если зайти слишком далеко, это могло стать своего рода культом: благочестивое, атеистическое благочестие.
В качестве метафизического идеала интеллигентности ‘ представьте себе профессора филологии Венского университета на рубеже прошлого века, расположившегося в своей библиотеке с бренди, своим пенсне и томом Пруста , после вечера в филармонии, где он наблюдал, как Густав Малер дирижирует Бетховеном.Эта фантазия античной среднеевропейской аристократии контрастировала с убогой и чахлой советской действительностью. Десятилетия постоянной пропаганды неизбежно оставили свой след во всех, кроме самых сильных умов. Отрезанная от внешнего мира и нормальных культурных, интеллектуальных и художественных влияний, вкусы советской интеллигенции застыли где-то около 1937 года. Ее члены находили спасение в своих книжных собраниях, которые всегда были почти идентичными, состоящими из одного и того же многотомника. издания русских и европейских классиков XIX века, некоторых модернистов и соцреалистов XX века, а также сборники зарубежной экзотики, такие как Лион Фейхтвангер, Марк Твен, Джон Дос Пассос, Джек Лондон, О.Генри, Эрнест Хемингуэй и еще несколько человек с Запада официально одобрили его. Особенно любили Антона Чехова. Врач по темпераменту и образованию (самые умные из профессий), его пьесы и рассказы не имели заметной политики и больше всего характеризовались сочувствием и заботой о человеческой порядочности.
В моей семье « интеллигентность» всегда воспринималась в положительном свете, до абсурдной степени, что обычные повседневные действия — держать вилку, расчесывать волосы, выбирать брюки — стали ее выражением.Но не обошлось и без критиков. Самую разрушительную критику русской интеллигенции высказал Александр Солженицын в эссе 1974 года под названием Educationdom (Образованщина) . Солженицын проследил истоки большевистской революции и ее катастрофические последствия до пороков старой интеллигенции, которые включали «сектантское, искусственное дистанцирование от национальной жизни», непригодность для практической работы, одержимость эгалитарной социальной справедливостью, которая «парализует любовь». интереса к истине »и« трансовое неадекватное чувство реальности.Были и другие, более темные пороки: «фанатизм, глухой к голосу повседневной жизни»; гипнотическая вера в собственную идеологию и нетерпимость к любой другой; и принятие «ненависти как страстного этического импульса». Еще хуже для Солженицына был пылкий отказ интеллигенции от христианства, замененный верой в научный прогресс и идолопоклонством, поклоняющимся человечеству. Этот атеизм был всеобъемлющим и некритичным в своей вере в то, что наука способна решить все религиозные вопросы окончательно и всесторонне.По мнению Солженицына, интеллигенция поддалась искушению Великого инквизитора Достоевского — пусть правда гниет, если людям это нравится.
В советской интеллигенции своего времени Солженицын видел только духовно истощенную тень своего дореволюционного предшественника, низвергнутую советским государством и лишенную немногих добродетелей, которыми обладал старый класс. Для русского интеллигентного старого типа личные интересы были безоговорочно и бескорыстно подчинены общественным причинам.Если раньше представители интеллигенции стремились отдаться всеобъемлющему мировоззрению, то теперь ими властвовал только усталый цинизм. Если раньше интеллигенция испытывала чувство долга и раскаяния перед «народом», то теперь было только ощущение, что это люди виноваты и упорно отказываются каяться. Советская интеллигенция не чувствовала сочувствия или связи со своей собственной историей и не обладала принципами, которые существенно отличались бы от принципов, применявшихся на практике советским режимом.«Старая интеллигенция действительно противостояла государству вплоть до открытой войны, и вот как все обернулось», — говорит Солженицын. Современная интеллигенция, напротив, продалась государству за несколько крошек привилегий. Главный ее недостаток, по мнению Солженицына, — моральная трусость. Более того, он сам был соучастником преступлений режима и его системы лжи.
Если некоторые из критических замечаний Солженицына кажутся американским консерваторам знакомыми, это может быть связано с тем, что качества, в которых он отчаялся, присущи образованной элите повсюду.А может быть, потому, что наша американская интеллигенция за последнее столетие была русифицирована. Вы можете подумать, что свободное общество полностью выражает достоинства интеллигенции. Тем не менее, каким-то образом наша собственная интеллигенция, лишенная серьезной потребности в моральном мужестве, сумела сосредоточить в себе худшие стороны своих русских собратьев: ханжество без жертв; одержимость эгалитарной социальной справедливостью, которая «парализует любовь к истине и интерес к ней»; ненависть к своей собственной истории и смешение этой ненависти со «страстным этическим порывом»; преувеличенное чувство собственных прав и возможностей; презрение к взглядам простых людей; явно фальшивая, претенциозная поза действия только на основе неоспоримых фактов и бескорыстного принципа.Если в случае с Советским Союзом мы видим рабскую интеллигенцию, защищающуюся от всемогущего тоталитарного полицейского государства, то в Соединенных Штатах мы видим иную динамику: могущественная, самоуверенная интеллигенция все больше и больше расходится с принципами работы демократии.
Недавно я обменялся шутками на Facebook с другом, который преподает в известном южном университете:
Друг: Обама не знал, как работать с Конгрессом. Но он был вдумчивым, сдержанным президентом и помешанным на политике.Он просто не знал, как (или не хотел) играть в игры, необходимые для достижения цели.
Я: Да, из него получился бы замечательный император.
Друг: Сначала я подумал, что вы саркастичны, но на самом деле вы, вероятно, правы. Скорее всего, он был бы порядочным доброжелательным диктатором.
Если бы только Америка могла быть коммунистическим Китаем хотя бы на один день, сетовал обозреватель New York Times Томас Фридман. Если бы только нами могла править всемогущая хунта профессоров Гарварда.Или пленарным комитетом из девяти видных юристов.
Конечно, взаимная антипатия между интеллектуалами и демократией восходит, по крайней мере, к классической древности, когда афинское собрание предало Сократу суду за развращение молодежи. Афинская интеллигенция сопротивлялась. Когда Платон создал свой план идеальной республики, она больше походила на авторитарную Спарту, чем на демократические Афины.
Соединенные Штаты не могли не вступить в противоречие со своим интеллектуальным классом.В отличие от царской России с ее жесткой системой каст и рангов, Соединенные Штаты с самого начала были эгалитарной республикой без местной интеллигенции. В девятнадцатом веке Токвиль обнаружил, что «классов не существует. . . в Америке, где вкус к интеллектуальным удовольствиям передается наследственным богатством и досугом и где труды интеллекта почитаются ». Токвиль понимал интеллигенцию по-французски и отождествлял ее с аристократией.Но американцы были деятелями, а не наблюдателями пупка. Им не хватало «вкуса к интеллектуальным удовольствиям», но они обладали огромным аппетитом к приобретению практических знаний.
Более века после Токвиля интеллектуалы оставались на обочине американского общества. Американские элиты были промышленными и финансовыми, а грубая и бурная культура страны отражала их вкусы и предпочтения. Но перемены были неизбежны. Новые университеты — особенно Джона Хопкинса и Чикагский университет — основывались по германскому образцу.Это были не общественные клубы для отпрысков железнодорожных баронов и банковских магнатов, а фабрики чистых знаний. Затем, в 1930-х и 1940-х годах, интеллигенция получила огромный импульс от притока большого числа беженцев из нацистской Европы, в том числе венских филологов, любивших Пруста и Малера. Но только после Второй мировой войны американская интеллигенция действительно вступила в свои права. Экономические изменения делают возможной все более высокую отдачу от инвестиций в университетское образование.Закон о военнослужащих представил миру профессиональных интеллектуалов все большее число американцев. А с созданием Службы образовательного тестирования академическая элита создала высокоэффективный механизм для сортировки американцев по интеллектуальным способностям и направления их через систему приема в университеты по разным социальным слоям.
Более 70 лет этого социального разделения дали нам отличительную, замкнутую и мощную интеллектуальную элиту, сформированную предрассудками, тревогами и аффектациями преподавательского зала; отделены от остальных все большей социальной, экономической и культурной дистанцией; и превращаясь в самовоспроизводящуюся касту.Эта правящая интеллигенция — или «образование», если воспользоваться едкой формулировкой Солженицына, — все больше и больше напоминает правящую аристократию времен Токвиля:
В аристократическом народе, среди которого культивируется литература, я полагаю, что интеллектуальные занятия, так же как и дела правительства, сосредоточены в правящем классе. Литературная и политическая карьера почти полностью ограничивается этим классом или ближайшими к нему по рангу. Этих помещений хватает на ключ ко всему остальному.
Американскую интеллигенцию по-прежнему трудно определить. Хорошим рабочим определением может быть класс образованных людей, которые, как Белая королева Льюиса Кэрролла, способны поверить в шесть невозможных вещей перед завтраком. Здесь, в произвольном порядке, стоит целый день: колледжи являются рассадниками культуры изнасилования; На Кубе прекрасное здравоохранение; New York Times не имеет предвзятого отношения; Исламофобия — это многозначительное слово; бедность порождает преступность; бедность вызывает терроризм; глобальное потепление вызывает терроризм; гендер — это социальная конструкция; капитализм вызывает расизм; расизм вызывает преступление; расизм вызывает бедность; Океания всегда была в состоянии войны с Остазией; и так далее.
По крайней мере, в советском случае соучастие в душераздирающей системе официальной лжи было принуждено штыком. Вызывает беспокойство то, что в нашей интеллигенции эти убеждения навязываются самому себе.
Избрание Барака Обамы было исключительным триумфом этого класса. Его избрание было ознаменовано важной вехой в расовых отношениях, которые оно представляло. Но среди интеллигенции этот восторг значительно усилился оттого, что он был одним из нас. Его неизбежная канонизация как светского святого лучше всего понять в контексте прихода интеллигенции на вершину американской политической власти.
Обама был лишь вторым профессиональным интеллектуалом, избранным президентом, первым был Вудро Вильсон. Вероятно, не случайно, что эти два президента были наименее демократичными по темпераменту. В отличие от Уилсона, который преподавал греческую и римскую историю и написал очень влиятельный фолиант о Конституции, критикующий Основание, Обама был малоизвестным преподавателем юридического факультета Чикагского университета, работавшим по совместительству, не создавшим оригинальных научных работ. Я изучал право в Чикаго, пока Обама преподавал там, но мне никогда не приходило в голову взять с ним курс.Ему удалось написать две книги о себе, и он, несомненно, был талантлив в стимулировании эрогенных зон интеллигенции, что побудило Гаррисона Кейлора упасть в обморок от NPR A Prairie Home Companion о том, как чудесно, что наконец-то у нас появился наш первый президент, который был « настоящий писатель. (Связаться с Авраамом Линкольном для получения комментариев не удалось.)
Не отнимать у Обамы ничего — он стал бы вполне адекватным доцентом политологии в Университете Северного Иллинойса, если бы развил самодисциплину для академической работы.Но реакция на него интеллигенции — общественной интеллигенции, суб-интеллигенции, псевдо-интеллигенции и люмпен-интеллигенции — была смущающе самопародийной.
«Если есть надежда, — писал Уинстон Смит в книге« 1984 », — то она в пролях». Джордж Оруэлл, который вложил эту мысль в голову Уинстона, был одним из самых антиинтеллектуальных интеллектуалов, но я сомневаюсь, что он хотел, чтобы мы серьезно отнеслись к надежде Уинстона. Я, например, не знаю. Но нам, безусловно, есть за что благодарить пролов за панику среди интеллигенции 2016 года.Крестьяне схватились за вилы, неблагодарно отвернулись от интеллектуализма Обамы и заменили его «трибуном простаков и негодяев», как Виктор Дэвис Хэнсон назвал Дональда Трампа. Чтобы понять, насколько это раздражает интеллигенцию, прочтите любую колонку Garrison Keillor с 9 ноября 2016 года.
Е.М. Обломов — адвокат, практикующий международное право в Вашингтоне, округ Колумбия.
Фото Антона Чехова и семьи Keystone / Getty Images
City Journal — это издание Манхэттенского института политических исследований (MI), ведущего аналитического центра свободного рынка.Вы заинтересованы в поддержке журнала? Как некоммерческая организация согласно 501 (c) (3), пожертвования в поддержку MI и City Journal полностью не облагаются налогом в соответствии с законом (EIN # 13-2912529). ПОЖЕРТВОВАТЬЗаметки о национализме | The Orwell Foundation
Этот материал защищен авторским правом в США и воспроизводится здесь при любезной помощи Orwell Estate.Фонд Оруэлла — зарегистрированная благотворительная организация, призванная увековечить наследие Джорджа Оруэлла, будь то посредством престижных премий Оруэлла, образовательной программы Молодежной премии Оруэлла, культурных мероприятий и дебатов или подобных ресурсов. Поддерживать нашу работу еще никогда не было так просто.
Где-то Байрон использует французское слово longeur и мимоходом замечает, что, хотя в Англии у нас нет слова , у нас есть вещь в значительном изобилии.Точно так же есть привычка ума, которая сейчас настолько распространена, что влияет на наше мышление почти по каждому предмету, но еще не получила названия. В качестве ближайшего из существующих эквивалентов я выбрал слово «национализм», но через мгновение станет ясно, что я не использую его в совершенно обычном смысле, хотя бы потому, что эмоция, о которой я говорю, не всегда связана с тем, что называется нацией, то есть отдельной расой или географическим районом. Он может присоединиться к церкви или классу, или он может работать просто в отрицательном смысле, против того или другого и без необходимости в каком-либо положительном объекте лояльности.
Под «национализмом» я, прежде всего, имею в виду привычку предполагать, что людей можно классифицировать как насекомых и что целые кварталы из миллионов или десятков миллионов людей можно уверенно маркировать «хорошими» или «плохими» [1]. Но во-вторых — и это гораздо важнее — я имею в виду привычку отождествлять себя с отдельной нацией или другой единицей, ставить ее выше добра и зла и не признавать никакой другой обязанности, кроме обязанности продвигать ее интересы. Национализм не следует путать с патриотизмом. Оба слова обычно используются настолько расплывчато, что любое определение может быть оспорено, но необходимо проводить различие между ними, поскольку речь идет о двух разных и даже противоположных идеях. Под «патриотизмом» я подразумеваю преданность определенному месту и определенному образу жизни, который каждый считает лучшим в мире, но не хочет навязывать другим людям. Патриотизм по своей природе носит оборонительный характер как в военном, так и в культурном отношении. С другой стороны, национализм неотделим от стремления к власти.Неизменной целью каждого националиста является обеспечение большей власти и большего престижа, не для себя, а для нации или другой единицы, в которой он решил утопить свою индивидуальность.
Пока это применяется только к наиболее печально известным и узнаваемым националистическим движениям в Германии, Японии и других странах, все это достаточно очевидно. Столкнувшись с таким явлением, как нацизм, которое мы можем наблюдать со стороны, почти все мы сказали бы о нем примерно одно и то же.Но здесь я должен повторить то, что я сказал выше, что я использую слово «национализм» только из-за отсутствия лучшего. Национализм в том широком смысле, в котором я использую это слово, включает такие движения и тенденции, как коммунизм, политический католицизм, сионизм, антисемитизм, троцкизм и пацифизм. Это не обязательно означает лояльность правительству или стране, тем более своей собственной стране, и даже не обязательно, чтобы подразделения, с которыми он имеет дело, действительно существовали.Приведу несколько очевидных примеров: еврейство, ислам, христианский мир, пролетариат и белая раса — все они являются объектами страстных националистических чувств; но их существование может быть серьезно поставлено под сомнение, и нет определения ни для одного из них, которое могло бы быть общепризнанный.
Также стоит еще раз подчеркнуть, что националистические настроения могут быть чисто негативными. Есть, например, троцкисты, которые стали просто врагами СССР, не развивая соответствующей лояльности к какому-либо другому подразделению.Когда мы понимаем последствия этого, природа того, что я имею в виду под национализмом, становится намного яснее. Националист — это тот, кто мыслит исключительно или в основном с точки зрения конкурентного престижа. Он может быть позитивным или негативным националистом — то есть он может использовать свою умственную энергию для поощрения или очернения — но в любом случае его мысли всегда обращены к победам, поражениям, триумфам и унижениям. Он видит историю, особенно современную историю, как бесконечный подъем и упадок великих держав, и каждое событие, которое происходит, кажется ему демонстрацией того, что его собственная сторона находится на подъеме, а какой-то ненавистный соперник падает.Но, наконец, важно не путать национализм с простым поклонением успеху. Националист не исходит из принципа простого объединения с сильнейшей стороной. Напротив, выбрав его сторону, он убеждает себя, что является самым сильным и способен придерживаться своей веры, даже когда факты в подавляющем большинстве противоречат ему. Национализм — это жажда власти, сдерживаемая самообманом. Каждый националист способен на самую вопиющую нечестность, но он также — поскольку он осознает, что служит чему-то большему, чем он сам, — непоколебимо уверен в своей правоте.
Теперь, когда я дал это длинное определение, я думаю, можно будет признать, что привычка ума, о которой я говорю, широко распространена среди английской интеллигенции и более распространена там, чем среди массы людей. Для тех, кто глубоко относится к современной политике, некоторые темы настолько заражены соображениями престижа, что по-настоящему рациональный подход к ним практически невозможен. Из сотен примеров, которые можно выбрать, возьмите этот вопрос: какой из трех великих союзников США?С.С.Р., Великобритания и США больше всего способствовали поражению Германии? Теоретически должна существовать возможность дать аргументированный и, возможно, даже окончательный ответ на этот вопрос. Однако на практике необходимые расчеты не могут быть произведены, потому что любой, кто, вероятно, задумается над подобным вопросом, неизбежно увидит его с точки зрения конкурентного престижа. Следовательно, он начал бы начиная с с принятия решения в пользу России, Великобритании или Америки, в зависимости от обстоятельств, и только после после года начался бы поиск аргументов, которые, казалось, поддерживали его позицию.И есть целый ряд подобных вопросов, на которые вы можете получить честный ответ только от того, кто безразличен ко всему рассматриваемому предмету и чье мнение по этому поводу, вероятно, в любом случае бесполезно. Отчасти отсюда и поразительный провал в наше время политических и военных прогнозов. Любопытно отметить, что из всех «экспертов» всех школ не было ни одного человека, который мог бы предвидеть столь вероятное событие, как российско-германский пакт 1939 года [2]. И когда появилась новость о Пакте, были даны самые дико расходящиеся объяснения, и были сделаны прогнозы, которые были фальсифицированы почти сразу, почти во всех случаях основанные не на изучении вероятностей, а на желании сделать U.С.С.Р. казаться хорошим или плохим, сильным или слабым. Политические или военные комментаторы, такие как астрологи, могут пережить почти любую ошибку, потому что их более преданные последователи обращаются к ним не за оценкой фактов, а за стимулированием националистической лояльности [3]. А эстетические суждения, особенно литературные, часто искажаются так же, как и политические. Индийскому националисту будет трудно получить удовольствие от чтения Киплинга, а консерватору — увидеть достоинства в Маяковском, и всегда есть соблазн заявить, что любая книга, с тенденцией которой кто-то не согласен, должна быть плохой книгой с точки зрения литературного Посмотреть.Люди с ярко выраженным националистическим мировоззрением часто применяют эту ловкость рук, не осознавая своей нечестности.
В Англии, если просто принять во внимание количество вовлеченных людей, вероятно, что доминирующей формой национализма является старомодный британский ура-патриотизм. Несомненно, это все еще широко распространено, и гораздо больше, чем большинство наблюдателей могло бы предположить дюжину лет назад. Однако в этом эссе меня интересует, в основном, реакция интеллигенции, среди которой ура-патриотизм и даже старый патриотизм почти умерли, хотя теперь они, кажется, возрождаются среди меньшинства.Среди интеллигенции нет нужды говорить, что доминирующей формой национализма является коммунизм — если использовать это слово в очень широком смысле, включая не только членов коммунистической партии, но и «попутчиков» и русофилов в целом. Для меня коммунист — это тот, кто смотрит на СССР как на свою Родину и считает своим долгом оправдывать российскую политику и продвигать российские интересы любой ценой. Очевидно, что таких людей сегодня в Англии много, и их прямое и косвенное влияние очень велико.Но процветают и многие другие формы национализма, и, заметив точки сходства между разными и даже кажущимися противоположными течениями мысли, можно лучше всего рассмотреть вопрос в перспективе.
Десять или двадцать лет назад формой национализма, наиболее близко соответствующей сегодняшнему коммунизму, был политический католицизм. Самым выдающимся ее представителем — хотя он, возможно, был скорее крайним случаем, чем типичным — был Дж. К. Честертон. Честертон был талантливым писателем, решившим подавить как свою чувствительность, так и интеллектуальную честность ради пропаганды римско-католической церкви.В течение последних двадцати лет его жизни вся его работа была на самом деле бесконечным повторением одного и того же, с его упорным умом, столь же простым и скучным, как «Велика Диана Ефесянам». Каждая книга, которую он написал, каждый абзац, каждое предложение, каждый случай в каждой истории, каждый обрывок диалога должны были демонстрировать вне всякой возможности ошибки превосходство католика над протестантом или язычником. Но Честертону не нравилось думать об этом превосходстве как об интеллектуальном или духовном: его нужно было перевести в термины национального престижа и военной мощи, что повлекло за собой невежественную идеализацию латинских стран, особенно Франции.Честертон недолго прожил во Франции, и его картина — это страна католических крестьян, непрестанно поющих Марсельезу за бокалами красного вина — имела такое же отношение к реальности, как Chu Chin Chow к повседневной жизни в мире. Багдад. И вместе с этим шла не только чрезмерная переоценка французской военной мощи (как до, так и после 1914-18 гг. Он утверждал, что Франция сама по себе была сильнее Германии), но и глупое и вульгарное восхваление самого процесса войны.В боевых стихах Честертона, таких как «Лепанто» или «Баллада о святой Барбаре», «Атака легкой бригады» читается как пацифистский трактат: это, пожалуй, самые безвкусные фрагменты напыщенности, которые можно найти на нашем языке. Интересно то, что если бы романтическая чушь, которую он обычно писал о Франции и французской армии, была написана кем-то другим о Британии и британской армии, он бы первым посмеялся. Во внутренней политике он был маленьким англичанином, истинным ненавистником ура-патриотизма и империализма и, по его мнению, настоящим другом демократии.Тем не менее, когда он смотрел на международное поле, он мог отказаться от своих принципов, даже не замечая того, что он делает. Таким образом, его почти мистическая вера в достоинства демократии не мешала ему восхищаться Муссолини. Муссолини уничтожил представительное правительство и свободу прессы, за которые Честертон так упорно боролся дома, но Муссолини был итальянцем и сделал Италию сильной, и это решило вопрос. Честертон никогда не находил слова, чтобы сказать об империализме и завоевании цветных рас, когда их практиковали итальянцы или французы.Его хватка за реальность, его литературный вкус и даже до некоторой степени его моральное чутье были нарушены, как только были затронуты его националистические привязанности.
Очевидно, есть значительное сходство между политическим католицизмом, примером которого является Честертон, и коммунизмом. Так что есть между любым из них и, например, шотландским национализмом, сионизмом, антисемитизмом или троцкизмом. Было бы чрезмерным упрощением сказать, что все формы национализма одинаковы, даже в их ментальной атмосфере, но есть определенные правила, которые действуют во всех случаях.Ниже приведены основные характеристики националистической мысли:
Одержимость. Насколько это возможно, ни один националист никогда не думает, не говорит и не пишет ни о чем, кроме превосходства своей собственной силовой единицы. Любому националисту трудно, если не невозможно, скрыть свою преданность. Малейшее оскорбление его собственного подразделения или любая подразумеваемая похвала конкурирующей организации наполняют его беспокойством, которое он может облегчить, только сделав резкий ответ. Если выбранная единица — реальная страна, такая как Ирландия или Индия, он, как правило, будет претендовать на превосходство не только в военной мощи и политической добродетели, но и в искусстве, литературе, спорте, структуре языка, физической красоте жителей. и, возможно, даже климатом, пейзажем и кулинарией.Он проявит большую чувствительность к таким вещам, как правильное отображение флагов, относительный размер заголовков и порядок, в котором названы разные страны. [4] Номенклатура играет очень важную роль в националистической мысли. Страны, завоевавшие независимость или пережившие националистическую революцию, обычно меняют свои названия, и любая страна или другая единица, вокруг которой вращаются сильные чувства, вероятно, будет иметь несколько названий, каждое из которых несет различный смысл. У двух сторон гражданской войны в Испании было по девять или десять имен, выражающих разную степень любви и ненависти.Некоторые из этих названий (например, «Патриоты» для сторонников Франко или «Лоялисты» для сторонников правительства) откровенно вызывали вопросы, и не было ни одного из них, которое две соперничающие фракции могли бы согласиться использовать. Все националисты считают своим долгом распространять свой собственный язык в ущерб конкурирующим языкам, и среди англоговорящих эта борьба вновь проявляется в более тонкой форме как борьба между диалектами. Англофобные американцы откажутся использовать жаргонную фразу, если они знают, что она британского происхождения, а конфликт между латиноамериканцами и германизаторами часто имеет националистические мотивы.Шотландские националисты настаивают на превосходстве низменных шотландцев и социалистов, чей национализм принимает форму тирады классовой ненависти против Би-би-си. акцент и даже широкий А. Можно было множить экземпляры. Националистическая мысль часто производит впечатление окрашенной верой в симпатическую магию — верой, которая, вероятно, проявляется в широко распространенном обычае сжигать политических врагов на изображениях или использовать их изображения в качестве мишеней в тирах.
Нестабильность. Интенсивность, с которой они удерживаются, не препятствует передаче националистической лояльности. Начнем с того, что, как я уже указывал, они могут быть привязаны к какой-то другой стране, и часто их привязывают. Довольно часто обнаруживается, что великие национальные лидеры или основатели националистических движений даже не принадлежат к той стране, которую они прославили. Иногда они откровенные иностранцы, а чаще — выходцы из периферийных районов, национальность которых вызывает сомнения. Примеры — Сталин, Гитлер, Наполеон, де Валера, Дизраэли, Пуанкаре, Бивербрук.Частично пангерманское движение было порождением англичанина Хьюстона Чемберлена. Последние пятьдесят или сто лет переданный национализм был обычным явлением среди литературных интеллектуалов. У Лафкадио Хирна перенос был в Японию, у Карлейля и многих других его времен в Германию, а в наше время это обычно в Россию. Но особенно интересным является то, что перенос на тоже возможен. Страна или другая единица, которой поклонялись в течение многих лет, может внезапно стать отвратительной, и какой-то другой объект привязанности может занять ее место почти без перерыва.В первой версии «Очерка истории » Герберта Уэллса и других его работ, посвященных тому времени, можно увидеть, что Соединенные Штаты восхваляются почти так же экстравагантно, как сегодня коммунисты хвалят Россию: однако за несколько лет это некритическое восхищение превратилось в враждебность. Фанатичный коммунист, который за несколько недель или даже дней превращается в столь же фанатичного троцкиста, — обычное зрелище. В континентальной Европе фашистские движения в основном набирались из коммунистов, и в ближайшие несколько лет вполне может произойти обратный процесс.Постоянным в националисте остается его собственное душевное состояние: объект его чувств изменчив и может быть воображаемым.
Но для интеллектуала перенос имеет важную функцию, о которой я уже упоминал вкратце в связи с Честертоном. Это дает ему возможность быть намного более националистическим — более вульгарным, более глупым, более злым, более нечестным — чем он когда-либо мог быть от имени своей родной страны или какой-либо единицы, о которой он действительно знал.Когда видишь рабскую или хвастливую чушь, которую пишут о Сталине, Красной армии и т. Д. Довольно умные и чуткие люди, понимаешь, что это возможно только потому, что произошла какая-то дислокация. В таких обществах, как наше, для человека, которого можно охарактеризовать как интеллектуала, необычно чувствовать очень глубокую привязанность к своей собственной стране. Общественное мнение, то есть та часть общественного мнения, которую он знает как интеллектуал, не позволит ему сделать это. Большинство окружающих его людей настроены скептически и недовольны, и он может занять такое же отношение из подражания или чистой трусости: в этом случае он откажется от наиболее подходящей формы национализма, не приближаясь к подлинно интернационалистскому мировоззрению.Он по-прежнему чувствует потребность в Отечестве, и естественно искать его где-нибудь за границей. Обнаружив его, он может безудержно погрязнуть именно в тех эмоциях, от которых, по его мнению, освободился. Бог, Король, Империя, Юнион Джек — все свергнутые идолы могут снова появиться под разными именами, и поскольку их не признают такими, какие они есть, им можно поклоняться с чистой совестью. Перенесенный национализм, как и использование козлов отпущения, — это способ достижения спасения без изменения поведения.
Безразличие к реальности. Все националисты обладают способностью не видеть сходства между схожими наборами фактов. Британские тори будут защищать самоопределение в Европе и выступать против него в Индии без всякого чувства непоследовательности. Действия признаются хорошими или плохими, но не по их собственным достоинствам, а в зависимости от того, кто их совершает, и почти не происходит никакого насилия — пытки, использование заложников, принудительный труд, массовые депортации, тюремное заключение без суда, подлог, убийства, бомбардировки мирных жителей — что не меняет своего морального облика, когда совершается «нашей» стороной.Либеральная газета News Chronicle в качестве примера шокирующего варварства опубликовала фотографии повешенных немцами русских, а затем год или два спустя с горячим одобрением опубликовала почти точно такие же фотографии немцев, повешенных русскими [5]. То же самое и с историческими событиями. История рассматривается в основном в националистических терминах, и такие вещи, как инквизиция, пытки в Звездной палате, подвиги английских пиратов (например, сэра Фрэнсиса Дрейка, которого заставили топить заживо испанских пленников), правления Террор, герои Мятежа, сбивающие сотни индейцев из пушек, или солдаты Кромвеля, режущие лица ирландок бритвами, становятся морально нейтральными или даже заслуживающими уважения, когда чувствуется, что они поступили «правильно».Если оглянуться назад на последнюю четверть века, можно обнаружить, что едва ли не было ни одного года, чтобы истории о злодеяниях не сообщались из какой-то части мира: и все же ни в одном случае эти зверства не имели места — в Испании, России. , Китай, Венгрия, Мексика, Амритсар, Смирна — в которые верила и не одобряла английская интеллигенция в целом. Достойны ли такие поступки предосудительного или даже произошли ли они, всегда решалось в зависимости от политических пристрастий.
Националист не только не осуждает зверства, совершаемые его собственной стороной, но и обладает замечательной способностью даже не слышать о них.Целых шесть лет английские поклонники Гитлера умудрялись не узнавать о существовании Дахау и Бухенвальда. И те, кто громче всех осуждает немецкие концентрационные лагеря, часто совершенно не знают или очень смутно знают, что в России также есть концентрационные лагеря. Такие грандиозные события, как украинский голод 1933 года, повлекший за собой гибель миллионов людей, фактически ускользнули от внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об истреблении немецких и польских евреев во время нынешней войны.Их собственный антисемитизм заставил это огромное преступление отразиться в их сознании. В националистической мысли есть факты, которые правдивы и неправдивы, известны и неизвестны. Известный факт может быть настолько невыносимым, что его обычно отодвигают в сторону и не допускают к логическим процессам, или, с другой стороны, он может входить в каждый расчет и, тем не менее, никогда не приниматься как факт, даже в собственном уме.
Каждого националиста преследует вера в то, что прошлое можно изменить. Он проводит часть своего времени в фантастическом мире, в котором все происходит так, как должно — в котором, например, испанская армада имела успех или русская революция была разгромлена в 1918 году, — и он перенесет фрагменты этого мира в историю. книги по возможности.Большая часть пропагандистских работ нашего времени сводится к простой подделке. Существенные факты замалчиваются, даты изменяются, цитаты удаляются из контекста и подделываются таким образом, чтобы изменить их значение. События, которые, как считается, не должны были произойти, не упоминаются и в конечном итоге отрицаются [6]. В 1927 году Чан Кай-Ши сварил заживо сотни коммунистов, и все же за десять лет он стал одним из героев левых. Перестройка мировой политики привела его в антифашистский лагерь, и поэтому возникло ощущение, что кипение коммунистов «не в счет» или, возможно, не произошло.Основная цель пропаганды, конечно, состоит в том, чтобы повлиять на мнение современников, но те, кто переписывает историю, вероятно, частью своего ума верят, что на самом деле они отбрасывают факты в прошлое. Когда вы рассматриваете тщательно продуманные подделки, которые были совершены, чтобы показать, что Троцкий не играл ценной роли в гражданской войне в России, трудно поверить в то, что виновные просто лгут. Более вероятно, что они считают, что их собственная версия была , что произошло в глазах Бога, и что одна из них имеет право переставлять записи соответствующим образом.
Безразличие к объективной истине поощряется тем, что одна часть мира изолирована от другой, что затрудняет обнаружение того, что на самом деле происходит. Часто можно искренне сомневаться в самых грандиозных событиях. Например, невозможно подсчитать в миллионах, а может быть, и в десятках миллионов количество погибших в результате нынешней войны. Постоянно сообщаемые бедствия — сражения, массовые убийства, голод, революции — обычно вызывают у обычного человека чувство нереальности происходящего.У человека нет возможности проверить факты, он даже не полностью уверен в том, что они произошли, и ему всегда предлагаются совершенно разные интерпретации из разных источников. В чем заключались преимущества и недостатки Варшавского восстания в августе 1944 года? Это правда о немецких газовых плитах в Польше? Кто был виноват в голоде в Бенгалии? Вероятно, правду можно обнаружить, но факты будут настолько нечестно изложены почти в любой газете, что рядовому читателю можно простить либо его глотание лжи, либо неспособность сформировать мнение.Общая неуверенность в том, что происходит на самом деле, позволяет легче цепляться за безумные убеждения. Поскольку ничто не может быть полностью доказано или опровергнуто, самый безошибочный факт можно нагло отрицать. Более того, хотя националист бесконечно размышляет о силе, победе, поражении, мести, он часто несколько не интересуется тем, что происходит в реальном мире. Он хочет, чтобы почувствовал , что его собственное подразделение превосходит какое-то другое, и ему легче сделать это, отбив очки у противника, чем исследуя факты, чтобы увидеть, поддерживают ли они его.Все националистические противоречия ведутся на уровне дискуссионного сообщества. Это всегда совершенно безрезультатно, поскольку каждый участник неизменно считает, что победил. Некоторые националисты недалеки от шизофрении, вполне счастливо живя среди мечтаний о власти и завоеваниях, не имеющих никакого отношения к физическому миру.
Я как можно лучше изучил психические привычки, общие для всех форм национализма. Следующее — классифицировать эти формы, но, очевидно, это невозможно сделать всесторонне.Национализм — огромная тема. Мир терзают бесчисленные заблуждения и ненависть, которые чрезвычайно сложным образом пересекают друг друга, и некоторые из самых зловещих из них еще не вторглись в европейское сознание. В этом эссе меня интересует национализм в том виде, в каком он встречается среди английской интеллигенции. В них гораздо больше, чем в обычных англичанах, нет примешивания к патриотизму, и поэтому их можно изучать в чистом виде. Ниже перечислены разновидности национализма, процветающие в настоящее время среди английских интеллектуалов, с такими комментариями, которые кажутся необходимыми.Удобно использовать три заголовка: «Положительный», «Переданный» и «Отрицательный», хотя некоторые разновидности могут быть отнесены к более чем одной категории:
Позитивный национализм
1. Нео-торизм. Примером являются такие люди, как лорд Элтон, А. П. Герберт, Г. М. Янг, профессор Пикторн, литература Комитета по реформе тори и такие журналы, как New English Review и Nineteen Century and After . Настоящая движущая сила нео-торизма, придающая ему националистический характер и отличающая его от обычного консерватизма, — это желание не признавать, что британская мощь и влияние уменьшились.Даже те, кто достаточно реалистичен, чтобы видеть, что военное положение Британии не то, что было, склонны утверждать, что «английские идеи» (обычно не определяемые) должны доминировать в мире. Все нео-тори настроены антироссийски, но иногда основной упор делается на антиамериканских. Важно то, что эта школа мысли, похоже, набирает силу среди молодых интеллектуалов, иногда бывших коммунистов, которые прошли через обычный процесс разочарования и разочаровались в этом. Англофоб, который внезапно становится яростно пробританским, — довольно обычная фигура.Писатели, которые иллюстрируют эту тенденцию, — Ф. А. Войт, Малкольм Маггеридж, Эвелин Во, Хью Кингсмилл, и психологически подобное развитие можно наблюдать у Т. С. Элиота, Уиндема Льюиса и различных их последователей.
2. Кельтский национализм. Валлийский, ирландский и шотландский национализм имеют различия, но схожи в своей антианглийской ориентации. Члены всех трех движений выступали против войны, продолжая называть себя пророссийскими, а сумасшедшие группы даже умудрялись быть одновременно пророссийскими и пронацистскими.Но кельтский национализм — это не то же самое, что англофобия. Его движущей силой является вера в прошлое и будущее величие кельтских народов, и в нем есть сильный оттенок расизма. Предполагается, что кельты духовно превосходят саксов — проще, более творчески, менее вульгарно, менее снобистски и т. Д. — но обычный голод к власти скрывается под поверхностью. Одним из симптомов этого является заблуждение, будто Ирландия, Шотландия или даже Уэльс могут сохранить свою независимость без посторонней помощи и ничем не обязаны британской защите.Среди писателей хорошими примерами этой школы мысли являются Хью МакДиармид и Шон О’Кейси. Ни один современный ирландский писатель, даже такого уровня, как Йейтс или Джойс, не лишен полностью следов национализма.
3. Сионизм. Это имеет необычные характеристики националистического движения, но его американский вариант кажется более жестоким и злобным, чем британский. Я классифицирую его как прямой, а не переданный национализм, потому что он процветает почти исключительно среди самих евреев.В Англии, по нескольким довольно неуместным причинам, интеллигенция в основном настроена за евреев в вопросе Палестины, но не испытывает к этому особого отношения. Все англичане доброй воли также являются проеврейскими в том смысле, что не одобряют преследования нацистов. Но какая-либо реальная националистическая лояльность или вера в врожденное превосходство евреев вряд ли можно найти среди язычников:
Переданный национализм
1. Коммунизм
2. Политический католицизм
3. Ощущение цвета. Старое пренебрежительное отношение к «туземцам» было значительно ослаблено в Англии, и различные псевдонаучные теории, подчеркивавшие превосходство белой расы, были отвергнуты [7]. У интеллигенции чувство цвета проявляется только в транспонированной форме, то есть как вера в врожденное превосходство цветных рас. Сейчас это становится все более распространенным среди английских интеллектуалов, вероятно, чаще из-за мазохизма и сексуального разочарования, чем из-за контакта с восточными и негритянскими националистическими движениями.Даже на тех, кто не очень сильно задумывается о цвете, снобизм и имитация имеют сильное влияние. Почти любой английский интеллектуал был бы возмущен утверждением, что белые расы превосходят цветные, тогда как противоположное утверждение могло бы показаться ему безупречным, даже если бы он с ним не согласился. Националистическая привязанность к цветным расам обычно смешивается с верой в то, что их сексуальная жизнь превосходна, и существует большая подпольная мифология о сексуальной доблести негров.
4. Чувство класса. Среди интеллектуалов высшего и среднего класса только в транспонированной форме — то есть как вера в превосходство пролетариата. И здесь, внутри интеллигенции, давление общественного мнения огромно. Националистическая лояльность к пролетариату и злобная теоретическая ненависть к буржуазии могут сосуществовать и часто сосуществуют с обычным снобизмом в повседневной жизни.
5. Пацифизм. Большинство пацифистов либо принадлежат к малоизвестным религиозным сектам, либо являются просто гуманитариями, которые возражают против лишения жизни и предпочитают не следовать своим мыслям дальше этого.Но есть меньшинство интеллектуальных пацифистов, чей реальный, хотя и непризнанный мотив, кажется, — ненависть к западной демократии и преклонение перед тоталитаризмом. Пацифистская пропаганда обычно сводится к утверждению, что одна сторона так же плоха, как и другая, но если внимательно присмотреться к трудам молодых интеллектуальных пацифистов, можно обнаружить, что они никоим образом не выражают беспристрастного неодобрения, а почти полностью направлены против Великобритании и других стран. Соединенные Штаты. Более того, они, как правило, не осуждают насилие как таковое, а только насилие, используемое для защиты западных стран.Русских, в отличие от британцев, не обвиняют в том, что они защищают себя военными средствами, и действительно, во всей пацифистской пропаганде такого типа не упоминаются Россия или Китай. Опять же, не утверждается, что индейцы должны отказываться от насилия в своей борьбе против британцев. Пацифистская литература изобилует двусмысленными замечаниями, которые, если они что-то значат, по всей видимости, означают, что государственные деятели типа Гитлера предпочтительнее государственных деятелей типа Черчилля и что насилие, возможно, простительно, если оно достаточно жестокое.После падения Франции французские пацифисты, столкнувшись с реальным выбором, которого не пришлось делать их английским коллегам, в основном перешли на сторону нацистов, а в Англии, похоже, произошло некоторое частичное совпадение членства в Союзе клятв мира. и чернорубашечники. Писатели-пацифисты восхваляют Карлайла, одного из интеллектуальных отцов фашизма. В общем, трудно не почувствовать, что пацифизм, как он проявляется среди части интеллигенции, втайне вдохновлен преклонением перед властью и успешной жестокостью.Была сделана ошибка, приписав эту эмоцию Гитлеру, но ее легко можно было перенести обратно.
Негативный национализм
1. Англофобия. В интеллигенции насмешливое и умеренно враждебное отношение к Британии является более или менее обязательным, но во многих случаях это неприкрытая эмоция. Во время войны это проявилось в пораженчестве интеллигенции, которое сохранялось еще долгое время после того, как стало ясно, что державы Оси не могут победить. Многие люди были несказанно довольны падением Сингапура или изгнанием британцев из Греции, а также явным нежеланием поверить в хорошие новости, например.г. эль-Аламейн, или количество немецких самолетов, сбитых в битве за Британию. Английские левые интеллектуалы, конечно, на самом деле не хотели, чтобы немцы или японцы выиграли войну, но многие из них не могли не получить определенного удовольствия от того, что увидели унижение своей собственной страны, и хотели почувствовать, что окончательная победа будет быть из-за России или, возможно, Америки, а не Великобритании. Во внешней политике многие интеллектуалы следуют принципу, что любая фракция, поддерживаемая Британией, должна быть неправой.В результате «просвещенное» мнение в значительной степени является зеркальным отражением консервативной политики. Англофобия всегда может быть обращена вспять, отсюда и это довольно обычное зрелище: пацифист одной войны становится воинственным участником следующей.
2. Антисемитизм. В настоящее время об этом мало свидетельств, потому что преследования нацистов заставили любого мыслящего человека встать на сторону евреев против их угнетателей. Любой достаточно образованный, чтобы слышать слово «антисемитизм», само собой разумеется, утверждает, что он свободен от него, а антиеврейские высказывания тщательно исключаются из всех классов литературы.На самом деле, кажется, что антисемитизм широко распространен даже среди интеллектуалов, и общий заговор молчания, вероятно, способствует его усугублению. Левые мнения не защищены от этого, и на их отношение иногда влияет тот факт, что троцкисты и анархисты, как правило, евреи. Но антисемитизм более естественен для людей консервативных тенденций, которые подозревают евреев в ослаблении национального духа и размывании национальной культуры. Нео-тори и политические католики всегда склонны поддаваться антисемитизму, по крайней мере, периодически.
3. Троцкизм. Это слово используется настолько свободно, что включает анархистов, демократических социалистов и даже либералов. Я использую его здесь для обозначения доктринерского марксиста, основным мотивом которого является враждебность сталинскому режиму. Троцкизм лучше изучать в малоизвестных брошюрах или в газетах, подобных «Социалистическому призыву № », № , чем по трудам самого Троцкого, который отнюдь не был человеком одной идеи. Хотя в некоторых местах, например в Соединенных Штатах, троцкизм может привлечь довольно большое количество сторонников и развиться в организованное движение с собственным мелким фюрером, его вдохновение по существу негативно.Троцкист — против Сталина, точно так же, как коммунист — против его, и, как большинство коммунистов, он хочет не столько изменить внешний мир, сколько почувствовать, что борьба за престиж идет в его пользу. В каждом случае наблюдается одна и та же навязчивая фиксация на одном предмете, та же неспособность сформировать действительно рациональное мнение, основанное на вероятностях. Тот факт, что троцкисты повсюду являются преследуемым меньшинством, и что обвинения, как правило, выдвигаются против них, т.е. о сотрудничестве с фашистами абсолютно ложно, создает впечатление интеллектуального и морального превосходства троцкизма над коммунизмом; но сомнительно, есть ли большая разница. В любом случае наиболее типичные троцкисты — это бывшие коммунисты, и никто не приходит к троцкизму, кроме как через одно из левых движений. Ни один коммунист, если он не привязан к своей партии годами привычки, не застрахован от внезапного впадения в троцкизм. Противоположный процесс, кажется, происходит не так часто, хотя нет четкой причины, почему бы этого не произошло.
В классификации, которую я предпринял выше, может показаться, что я часто преувеличивал, упрощал, делал необоснованные предположения и не принимал во внимание существование обычно достойных мотивов. Это было неизбежно, потому что в этом эссе я пытаюсь изолировать и идентифицировать тенденции, которые существуют во всех наших умах и извращают наше мышление, не обязательно происходящие в чистом состоянии или действующие непрерывно. Здесь важно исправить чрезмерно упрощенную картину, которую я был вынужден создать.Начнем с того, что никто не имеет права предполагать, что каждый или даже каждый интеллектуал заражены национализмом. Во-вторых, национализм может быть прерывистым и ограниченным. Умный человек может наполовину поддаться убеждению, которое его привлекает, но которое, как он знает, абсурдно, и он может долго не думать об этом, возвращаясь к нему только в моменты гнева или сентиментальности, или когда он уверен что не задействованы никакие важные вопросы. В-третьих, националистическое кредо может быть добросовестно принято из ненационалистических мотивов.В-четвертых, в одном человеке могут сосуществовать несколько видов национализма, даже взаимоисключающие.
Все это время я говорил: «националист делает то» или «националист делает то», используя в целях иллюстрации крайний, едва ли разумный тип националиста, у которого нет нейтральных областей в своем сознании и который не интересуется ничем, кроме борьба за власть. На самом деле такие люди довольно распространены, но пороха и дроби они не стоят. В реальной жизни с лордом Элтоном, Д. Н. Приттом, леди Хьюстон, Эзрой Паунд, лордом Ванисттартом, отцом Кафлином и всеми остальными членами их унылого племени приходится бороться, но вряд ли стоит указывать на их интеллектуальные недостатки.Мономания неинтересна, и тот факт, что ни один из наиболее фанатичных националистов не может написать книгу, которую, по прошествии многих лет, все же стоит прочитать, имеет определенный дезодорирующий эффект. Но если признать, что национализм победил не везде, что все еще есть люди, суждения которых не зависят от их желаний, остается фактом, что насущные проблемы — Индия, Польша, Палестина, Гражданская война в Испании, Москва. судебные процессы, американские негры, российско-германский пакт или что-то еще — не могут или, по крайней мере, никогда не обсуждаются на разумном уровне.Элтоны, Притты и Коглины, каждый из которых просто огромный рот, снова и снова выкрикивающий одну и ту же ложь, очевидно, являются крайними случаями, но мы обманываем себя, если не понимаем, что все мы можем походить на них в незащищенные моменты. Если ударить какую-нибудь ноту, позволить наступить на ту или иную кукурузу — а это может быть та кукуруза, о существовании которой до сих пор не подозревали, — и самый справедливый и добродушный человек может внезапно превратиться в злого партизана. стремится только «забить» своего противника и безразлично, сколько лжи он говорит или сколько логических ошибок допускает при этом.Когда Ллойд Джордж, который был противником англо-бурской войны, объявил в палате общин, что в британских коммюнике, если их сложить вместе, утверждалось, что было убито больше буров, чем содержала вся бурская нация, было записано, что Артур Бальфур восстал. вскочил на ноги и закричал: «Кад!» Очень немногие люди устойчивы против подобных ошибок. Негр, оскорбляемый белой женщиной, англичанин, который слышит, как американец невежественно критикует Англию, католический апологет напомнил об испанской армаде, отреагирует примерно так же.Один удар по нерву национализма, и интеллектуальные приличия могут исчезнуть, прошлое может быть изменено, а самые очевидные факты могут быть отвергнуты.
Если где-то в голове таятся националистическая лояльность или ненависть, определенные факты, хотя в известном смысле они верны, недопустимы. Вот несколько примеров. Ниже я перечисляю пять типов националистов и против каждого добавляю факт, который этот тип националиста не может принять даже в своих тайных мыслях:
Британские консерваторы: Британия выйдет из этой войны с уменьшенной властью и престижа.
Коммунист: Если бы ей не помогали Великобритания и Америка, Россия была бы побеждена Германией.
Ирландский националист: Эйре может оставаться независимым только благодаря британской защите.
Троцкист: Сталинский режим принят российскими массами.
Пацифист: Те, кто «отвергает» насилие, могут сделать это только потому, что другие совершают насилие от их имени.
Все эти факты совершенно очевидны, если не иметь отношения к чьим-то эмоциям: но для человека, названного в каждом случае, они также неприемлемы , и поэтому их следует отрицать, и ложные теории строятся на их отрицании. .Я возвращаюсь к поразительному провалу военных прогнозов в нынешней войне. Я думаю, будет правильным сказать, что интеллигенция ошибалась в ходе войны больше, чем простой народ, и что их больше волновали партизанские чувства. Средний левый интеллектуал полагал, например, что война была проиграна в 1940 году, что немцы должны были захватить Египет в 1942 году, что японцы никогда не будут изгнаны с завоеванных ими земель и что англоязычные страны Американские бомбардировки не произвели впечатления на Германию.Он мог в это поверить, потому что его ненависть к британскому правящему классу не позволяла ему признать, что британские планы могут быть успешными. Нет предела безрассудству, которое можно проглотить, если человек находится под влиянием такого рода чувств. Я слышал, например, уверенно заявлялось, что американские войска были введены в Европу не для борьбы с немцами, а для подавления английской революции. Чтобы верить в такие вещи, нужно принадлежать к интеллигенции: ни один обычный человек не может быть таким дураком.Когда Гитлер вторгся в Россию, официальные лица M.O.I. выпустил «в качестве фона» предупреждение о том, что через шесть недель можно ожидать краха России. С другой стороны, коммунисты считали каждую фазу войны победой русских, даже когда русские были отброшены почти к Каспийскому морю и потеряли несколько миллионов пленников. Нет необходимости умножать экземпляры. Дело в том, что как только в дело вступают страх, ненависть, ревность и поклонение силе, чувство реальности теряет равновесие.И, как я уже отмечал, расстраивается также чувство правильного и неправильного. Нет преступления, абсолютно никакого, с которым нельзя мириться, когда его совершает «наша» сторона. Даже если кто-то не отрицает, что преступление произошло, даже если он знает, что это точно такое же преступление, какое он осудил в каком-то другом случае, даже если он интеллектуально признает его неоправданность, — все равно он не может почувствовать. , что это неправильно. Речь идет о преданности, и поэтому жалость перестает действовать.
Причина роста и распространения национализма — слишком большой вопрос, чтобы здесь поднимать его.Достаточно сказать, что в тех формах, в которых он проявляется среди английских интеллектуалов, он является искаженным отражением ужасных битв, действительно происходящих во внешнем мире, и что его худшие безумие стали возможными благодаря краху патриотизма и религиозности. вера. Если кто-то последует этому ходу мыслей, он рискует впасть в разновидность консерватизма или в политический квиетизм. Например, можно правдоподобно утверждать — это даже, вероятно, верно, — что патриотизм — это прививка от национализма, что монархия — это защита от диктатуры, а организованная религия — это защита от суеверий.Или, опять же, можно утверждать, что нет беспристрастного взгляда , что все вероучения и причины включают одну и ту же ложь, безрассудство и варварство; и это часто выдвигается как причина для того, чтобы вообще не вмешиваться в политику. Я не принимаю этот аргумент хотя бы потому, что в современном мире никто, которого можно охарактеризовать как интеллектуалов, не может, , оставаться вне политики в том смысле, что он не заботится о них. Я считаю, что нужно заниматься политикой — используя это слово в широком смысле — и что у человека должны быть предпочтения: то есть нужно признать, что одни причины объективно лучше других, даже если они продвигаются столь же плохими средствами.Что касается националистической любви и ненависти, о которых я говорил, то они являются частью грима большинства из нас, нравится нам это или нет. Можно ли избавиться от них, я не знаю, но я верю, что с ними можно бороться, и что это, по сути, моральное усилие . Речь идет, прежде всего, о том, чтобы понять, кто вы есть на самом деле, каковы на самом деле собственные чувства, а затем сделать поправку на неизбежную предвзятость. Если вы ненавидите и боитесь России, если вы завидуете богатству и могуществу Америки, если вы презираете евреев, если у вас есть чувство неполноценности по отношению к британскому правящему классу, вы не можете избавиться от этих чувств, просто подумав.Но вы, по крайней мере, можете распознать, что они у вас есть, и не дать им повлиять на ваши умственные процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, возможно, даже необходимы для политических действий, должны существовать бок о бок с принятием реальности. Но для этого, я повторяю, необходимо приложить моральных усилий, и современная английская литература, поскольку она вообще соответствует основным проблемам нашего времени, показывает, как мало из нас готовы к этому.
Примечания автора
[1] Нации и даже более расплывчатые образования, такие как католическая церковь или пролетериат, обычно рассматриваются как личности и часто называются «она».В любой открываемой газете можно найти заведомо абсурдные замечания, такие как «Германия по своей природе коварна», а безрассудные обобщения о национальном характере («Испанец — прирожденный аристократ» или «Каждый англичанин — лицемер») произносят почти все. . Время от времени эти обобщения кажутся необоснованными, но привычка делать их сохраняется, и люди с якобы интернациональным мировоззрением, например В них часто бывают виноваты Толстой или Бернард Шоу. [2] Некоторые авторы консервативных тенденций, такие как Питер Друкер, предсказали соглашение между Германией и Россией, но они ожидали фактического союза или объединения, которое будет постоянным.Ни один марксист или другой левый писатель любого цвета кожи не приблизился к предсказанию Пакта. [3] Военных комментаторов популярной прессы можно в основном классифицировать как пророссийских или антироссийских, про-дирижаблей или противников дирижаблей. Такие ошибки, как вера в неприступность линии Мажино или предсказание, что Россия завоюет Германию за три месяца, не пошатнули их репутацию, потому что они всегда говорили то, что их собственная аудитория хотела услышать. Два военных критика, которых больше всего поддерживает интеллигенция, — это капитан Лидделл Харт и генерал-майор Фуллер, первый из которых учит, что защита сильнее атаки, а второй, что нападение сильнее защиты.Это противоречие не помешало им обоим быть признанными одной и той же общественностью в качестве авторитетов. Секретная причина их популярности в левых кругах заключается в том, что они оба не в ладах с военным министерством. [4] Некоторые американцы выразили недовольство тем, что «англо-американский» — это нормальная форма сочетания этих двух слов. Было предложено заменить «американо-британским». [5] News Chronicle посоветовал своим читателям посетить новостной фильм, в котором можно было увидеть всю казнь крупным планом. Star опубликовал с кажущимся одобрением фотографии почти обнаженных женщин-коллаборационистов, которых травит парижская мафия. Эти фотографии сильно напоминали нацистские фотографии евреев, замученных берлинской мафией. [6] Примером может служить российско-германский пакт, который как можно быстрее стирается из общественной памяти. Российский корреспондент сообщает мне, что упоминание Пакта уже исключено из российских ежегодников, в которых приводятся последние политические события. [7] Хороший пример — суеверие о солнечном ударе.До недавнего времени считалось, что белые расы гораздо более подвержены солнечному удару, чем цветные, и что белый человек не может безопасно передвигаться под тропическим солнцем без пробкового шлема. У этой теории не было никаких доказательств, но она служила цели подчеркнуть разницу между «туземцами» и европейцами. Во время нынешней войны эта теория была незаметно отброшена, и целые армии маневрируют в тропиках без пробковых шлемов. Пока существовало суеверие о солнечном ударе, английские врачи в Индии, кажется, верили в него так же твердо, как и миряне.Polemic , Великобритания — Лондон, 1945
Перейти к основному содержанию ПоискПоиск
- Где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск- Войти | регистр
- Подписка / продление
- Учреждения
- Индивидуальные подписки
- Индивидуальное продление
- Библиотекари
- Пакет Чикаго
- Полный охват и охват содержимого
- Файлы KBART и RSS-каналы
- Разрешения и перепечатки
- Инициатива развивающихся стран Чикаго
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы библиотекарей
- и платежи
- О нас
- Публикуйте у нас
- Публикация новых журналов
- 39 904 tners
- Подпишитесь на уведомления eTOC
- Пресс-релизы
- СМИ
- Издательство Чикагского университета
- Распределительный центр в Чикаго
- Чикагский университет
- Положения и условия
- Заявление об этике публикаций
- Уведомление о конфиденциальности
- Доступность Chicago Journals
- Доступность вузов
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
- Свяжитесь с нами
- Медиа и рекламные запросы
- Открытый доступ в Чикаго
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
Консервативные интеллектуалы, поддерживающие Трампа
Логично, что Дональд Трамп должен иметь меньшую поддержку среди интеллектуалов, чем год назад.Это потому, что за последний год он делал заявления, разоблачающие его как игнорирование государственной политики и пренебрежение либерально-демократическими нормами. Он предложил запретить мусульманам въезд в Соединенные Штаты, подстрекал к насилию против демонстрантов на своих митингах, ответил на критическое освещение газеты The Washington Post , опубликованное в журнале , предупреждением, что его владелец «избежит наказания за убийство» из-за своих налогов и «мы можем». «Пусть ему это сойдет с рук», — заявил федеральный судья предвзято, потому что он американец мексиканского происхождения, и дважды показал, что не знаком с термином ядерная триада .
Вместо этого, более чем через год после того, как Трамп объявил о своем предложении на пост президента, его поддержка среди интеллектуалов выросла. Конечно, многие видные консерваторы — от Джорджа Уилла до Уильяма Кристола, Дэвида Брукса и Эрика Эриксона — выступают против него воинственно. Но другая группа писателей и мыслителей заявили, что поддерживают или, по крайней мере, готовы поддерживать Трампа. Среди критиков Трампа преобладающим объяснением этой открытости является оппортунизм: поддержка кандидата от республиканцев может иметь профессиональные преимущества.Но действует более глубокая динамика. Это просто трудно распознать, потому что американские интеллектуалы уже давно не ощущали столь сильной привлекательности авторитарной и нелиберальной политики.
В 1953 году Чеслав Милош опубликовал The Captive Mind , в котором описал, как ряд польских интеллектуалов пришли к сталинизму. Милош подробно рассказал о роли, которую «принуждение» и «личные амбиции» сыграли в их идеологической трансформации. Но он подчеркнул, что его беспокоят «вопросы более важные, чем простая сила» или материальный прогресс.«Принадлежать к массам — величайшее стремление« отчужденного »интеллектуала», — утверждал Милош. «Удовлетворение личных амбиций … это просто внешние и видимые признаки социальной полезности, символы признания, которое усиливает интеллектуальное чувство принадлежности ».
Книга произвела фурор в США и Западной Европе, отчасти потому, что западные интеллектуалы понимали стремление «принадлежать к массам», описанное Милошем. Многие это почувствовали на себе.В 1928 году философ Джон Дьюи с завистью писал, что, хотя роль западных интеллектуалов была «главным образом критической», перед интеллектуалами в Советском Союзе стояла задача «всеобъемлющая и конструктивная». Они являются органическими членами органического действующего движения ». В своей книге « The Vital Center » 1949 года Артур М. Шлезингер-младший заметил, что «против одиночества и отсутствия корней человека в свободном обществе» тоталитаризм «обещает безопасность и товарищеские отношения крестоносного единства».
Стремления к актуальности достаточно, чтобы заставить некоторых интеллектуалов усомниться в самой либеральной демократии.Трампизм — это не марксизм, чья якобы научная теория истории особенно привлекала интеллектуалов. Даже фашизм, выросший из социального дарвинизма, имел более богатое интеллектуальное происхождение, чем трампизм. Но, как и люди, возглавлявшие эти авторитарные движения, Трамп предлагает интеллектуалам возможность выступить от имени возбужденных масс и, таким образом, заявить о себе за пределами своих салонов. И сейчас, как и тогда, стремление к такой актуальности достаточно сильно, чтобы заставить некоторых интеллектуалов усомниться в самой либеральной демократии.
Прочтите интеллектуалов, которые поддерживают Трампа или готовы поддержать Трампа, и вы заметите несколько тем. Во-первых, они восхищаются необузданной энергией его кампании. По словам обозревателя Wall Street Journal Пегги Нунан, движение Трампа излучает «динамизм». Его сторонники «едва ли не единственные веселые люди в политике … Они хорошо проводят время». Бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, еще более беззастенчивый сторонник Трампа, объясняет: «Здесь нет модели … Это уникальный, экстраординарный опыт Дональда Трампа.И вы должны расслабиться и принять это для такого уникального опыта ».
Затем интеллектуалы, поддерживающие Трампа, наказывают политические элиты за неуважение к его ярким и страстным последователям. «Те, кто выступает против Трампа, должны делать это серьезно и с уважением к его сторонникам», — пишет Нунан. «На данный момент никому не нужны твои сопливые удары». На самом деле, как утверждают интеллектуалы Трампа, элиты из-за собственной некомпетентности и коррупции потеряли все основания читать лекции сторонникам Трампа о правах личности и верховенстве закона.В своих отношениях с вашингтонскими «истеблишментами», говорит Гингрич, Трамп «похож на мальчика, который говорит, что у императора нет одежды». Нунан добавляет:
Интеллигенция консервативного движения Кольцевой дороги продолжает расстраиваться из-за предстоящего выдвижения Трампа и заявляет, что поддержит его, но они должны иметь возможность спать по ночам. Они достаточно хорошо выспались после двух непривычных войн, великой рецессии и отказа республиканской и демократической администраций остановить нелегальную иммиграцию.
В этом нет смысла. Даже если консервативные элиты не пострадали от нелегальной иммиграции, финансового кризиса, иракских и афганских войн (как утверждает Нунан, но не пытается доказать), почему из этого следует, что они должны согласиться с кандидатом в президенты, требующим пыток, религиозным тест на въезд в США и отстранение судей по причине их национальности? На самом деле Нунан предполагает, что авторитетным политикам и комментаторам не хватает моральных качеств, чтобы противостоять Трампу, потому что он не может быть хуже их.И кроме того, с ним люди.
В книге The Captive Mind Милош утверждал, что сталинские интеллектуалы «представили [ред] как демонов довольно неэффективную полицию и медлительных судей» польского режима до Второй мировой войны, чтобы предположить, что советское господство не могло быть хуже . Осуждая нынешних лидеров Америки как хищных и декадентских, интеллектуалы Трампа делают нечто подобное. «Естественная дуга прогрессизма в стиле Обамы — всегда антиконституционный фашизм», — пишет Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Института Гувера и частый участник National Review .Кен Масуги, бывший помощник Кларенса Томаса, ныне работающий в Институте Клермонта, уважаемом консервативном аналитическом центре, утверждает, что, хотя Трамп может и не идеален, он, по крайней мере, отстаивает «суверенитет народа», который восстает против «американской элиты». [которые] давно отказались от основных принципов конституционного управления ».
Неужели лидеры Америки действительно «отказались от основных принципов конституционного управления»? Масуги направляет читателей, желающих получить дополнительную информацию, к так называемому «Журналу американского величия».Нунан тоже. Она называет журнал «сложным, довольно блестящим и анонимным веб-сайтом, который использует этот момент Трампа, чтобы вырваться из навязываемой консервативной ортодоксии последних 15 лет».
Это один из способов описания. За четыре месяца своей жизни «Журнал американского величия», в котором была представлена коллекция писателей с классическими псевдонимами и близких к немецко-американскому политологу Лео Штраусу, выдвинул высокопрофессиональные доводы в пользу свержения существующего политического строя в Америке и замены его новым политическим порядком. сырая, динамичная, опьяняющая энергия Дональда Трампа.Журнал закрылся в июне после того, как некоторые из его авторов забеспокоились, что их личности будут раскрыты. Но консервативный писатель Стивен Хейворд, который знает нескольких его авторов, предсказывает, что они будут продолжать публиковаться в других местах. По его словам, они уже получили несколько предложений о книжных контрактах.
Эдмон де Аро«Журнал американского величия» ясно дает понять, что подразумевают Нунан, Хэнсон и Гингрич: нынешняя система правления в Америке незаконна.В одной статье говорится: «Цифры на одной руке достаточно, чтобы сосчитать всех действительно преданных защитников американского суверенитета, свободы и государственности в Конгрессе». Второй утверждает, что Соединенные Штаты являются «постконституционными». Третий обвиняет консерваторов в Вашингтоне в «настолько глубоком упадке, что потребуется некий Оливер Кромвель, чтобы его проколоть».
Гипербола говорит о многом. Очевидно, что Соединенные Штаты не являются образцом либеральной демократии. Америка менее демократична, чем могла бы быть, потому что предпочтения сверхбогатых часто перевешивают предпочтения всех остальных, а также потому, что во многих штатах голосование затруднено.Америка менее либеральна, чем могла бы быть — она не может эффективно гарантировать индивидуальные права или ограничивать исполнительную власть — потому что ее бюрократия национальной безопасности действует в основном тайно, без строгого судебного надзора или надзора со стороны Конгресса.
Это серьезные проблемы. Но они будут усугубляться, а не исправляться, если избрать кандидата, который запрещает журналистам участвовать в митингах, клевещет на федеральных судей и говорит, что прикажет военным пытать. Однако авторы «Журнала американского величия» не верят, что политическую систему Америки можно исправить.Они хотят, чтобы он был свергнут кандидатом, который действительно представляет народную волю.
Чтобы объяснить, как это может работать, Деций, один из самых плодовитых авторов журнала, использует штраусовское различие между «тиранией» и «цезаризмом». Тиран, утверждает Штраус, получает абсолютную власть, свергнув конституционную республику. Цезарь также получает абсолютную власть, но только тогда, когда конституционная республика уже рухнула сама по себе.
Деций говорит, что Трамп, вероятно, не Цезарь, потому что «он будет служить не более двух сроков, разрешенных Конституцией.Но если он Цезарь, это может служить Америке. «Разве мы не дегенерировали до такой степени, что готовы к Цезарю?» — пишет Деций. «Цезаризм — это не тирания. Это скорее подвид абсолютной монархии, в которой монарх — не несправедливый узурпатор, а спаситель страны с распавшимся республиканским порядком, который больше не может функционировать ». Свергнув порочную и неподотчетную элиту, Трамп подтвердит «суверенитет народа» и «его естественное право управлять собой».
Почему мы должны беспокоиться о псевдонимах на уже не существующем веб-сайте? Потому что представление о том, что роль Трампа как народного трибуна наделяет его своего рода революционной властью над институтами старого порядка, находит отклик во всех комментариях сторонников Трампа.В феврале Нунан писал: «В Америке происходит своего рода мягкая Французская революция, когда злые и заблокированные люди начинают упорно давить на забывчивую элиту». В мае она написала, что поклонники Трампа хотят, чтобы он был «человеческой бомбой, которая взорвется по таймеру под скамейкой в парке Лафайет и уничтожит всех людей, но памятники останутся стоять». Это ужасные метафоры. Очевидно, Нунан не поддерживает революционное насилие. Но она сочувственно пишет о предполагаемом желании людей этого.И она делает это от имени кандидата, который подстрекает к фактическому насилию.
Из нашего выпуска за сентябрь 2016 г.
Ознакомьтесь с полным содержанием и найдите свой следующий рассказ, который стоит прочитать.
ПодробнееПредположение о том, что Трамп пользуется большей легитимностью, чем институты, призванные его сдерживать, также проявляется в защите его нападок на прессу. «Когда он говорит, что СМИ — подонки и лжецы, это вызывает резонанс, потому что большинство людей им не доверяет», — заявил в июне Шон Хэннити из Fox News, используя ту же логику, что и «Журнал американского величия».«Поскольку Трамп представляет людей, а люди не доверяют СМИ, которые являются частью коррумпированного правящего класса, Трамп имеет право клеветать и препятствовать работе СМИ. По словам Хэннити: «Они заслуживают того, что получают».
Имеет ли это значение? Это зависит от того, насколько близок Трамп к победе. Если Хиллари Клинтон сбьет его с пути, интеллектуальные аргументы, которые строятся в его пользу, исчезнут. Он исчезнет, потому что легитимность трампизма основана на его поддержке среди людей.
Угроза возникнет, если популярность Трампа резко возрастет.Для Трампа популярность равна правде. Вот почему, когда он впереди, он так много времени цитирует опросы. Он понимает, что в американском публичном дискурсе трудно сказать, что люди неправы.
Таким образом, для интеллектуалов кампания Трампа представляет собой две проверки. Во-первых, их способность подтолкнуть американскую политическую систему к борьбе с горючим экономическим отчаянием белых людей из рабочего класса, которые руководили кампанией Трампа. Но вторая причина заключается в их способности заявить — независимо от того, сколько американцев тяготеет к Трампу, — что его сторонники ошибаются.Америка — демократия, потому что голоса людей имеют значение. Но это либеральная демократия, потому что свобода прессы, независимость судебной власти и верховенство закона не подлежат всенародному голосованию.
Милош назвал The Captive Mind «дискуссией с теми из моих друзей, которые мало-помалу уступали магическому влиянию Новой веры». Постепенно некоторые американские интеллектуалы уступают место сторонникам Дональда Трампа. Им нужно бросить вызов сейчас, прежде чем это магическое влияние возрастет.
Заслуживает ли российская интеллигенция своего имени?
Общественные науки
Т. 30, No. 1 / март 1999 г.
Заслуживает ли русская интеллигенция своего имени?
Николай Карлов *
На протяжении многих десятилетий как власть имущие, так и так называемые «массы», по отдельности или вместе, искренне презирали как интеллигенцию в целом, так и отдельных ее представителей. Интеллигенция стала плохим словом.В то же время ни народ, ни лидеры не могут существовать без государства, объединяющего нацию. В свою очередь, государство не может существовать без государственной идеи, которая может быть сформулирована в очень общих терминах, но интерпретируется всеми более или менее одинаково.
Существуют разные формы государства и разные способы реализации идеи государственности. Самые стабильные государства — это те, которые являются национальными или считают себя национальными. Слово нация используется здесь не в этническом смысле, а в том смысле, в котором оно используется Организацией Объединенных Наций, то есть как определенное государственное единство, почти как синоним слова государство в целом.
Национальное государство не может существовать без национального самосознания. Национальное самосознание невозможно без национальной интеллигенции. Отсюда потребность в здоровой интеллигенции в здоровом государстве.
А что такое интеллигенция? Многие пытались дать исчерпывающее, однозначное и в то же время содержательное определение этого слова.
В современной России этот термин обычно трактуется как обозначение определенного сообщества людей, которые в большинстве своем хорошо образованы, занимаются интеллектуальным трудом, инстинктивно следуют определенному моральному и этическому кодексу и, к сожалению, страдают от слабость воли, отсутствие настойчивости и тяга к действию съедены скептицизмом и сомнением и традиционно противопоставляют себя власть имущим.Этим понятие далеко не исчерпывается. Любой представитель интеллигенции сможет расширить или сузить этот список характеристик. Но главное — это свойство, которое трудно определить, какая-то неопределимая аура или нимб. Действительно, у нас есть своего рода замкнутый круг: интеллектуал — это человек, принадлежащий к интеллигенции, а интеллигенция — это сообщество таких людей.
Понятие можно, конечно, дифференцировать, выделив так называемую «творческую интеллигенцию», армейскую интеллигенцию, научную интеллигенцию, педагогов, медицинскую интеллигенцию и т. Д.Но это не решает проблемы.
По свидетельству современников (чьи свидетельства опровергаются некоторыми исследователями), слово интеллигенция ввел в 1860-е гг. Петр Боборыкин (1836–1921), известный писатель школы натуралистов, почетный член Петербургского Академия наук. Он основывался на латинском слове lligentia, , которое означает: (1) понимание, разум, восприимчивость, познавательная сила; (2) понятие, понятие, идея; (3) восприятие, чувственное познание; (4) мастерство, искусство.Слово интеллигентный, член интеллигенции, которое происходит от латинского интеллигент, означает: (1) хорошо информированный, понимающий, знающий; (2) разумный, разумный; (3) адепт, специалист.
Не менее любопытны интерпретации термина интеллигенция в популярных, но достаточно серьезных англоязычных словарях. Оксфордский словарь английского языка: «Интеллигенция … класс общества, рассматриваемый как обладающий культурой и политической инициативой.”
Словарь Вебстера: «Интеллектуалы, составляющие творческий, социальный или политический авангард или элиту».
Словарь Лонгмана: «Люди в обществе, которые высокообразованы и часто интересуются идеями и новыми разработками, особенно в искусстве или политике».
Итак, интеллигенция создает идеологию, интеллигенция живет идеологией, интеллигенция делает все возможное, чтобы внедрить идеологию в жизнь. Недаром принято считать, что в процессе создания и распространения идеологии, в процессе умножения, упрощения и адаптации последней большую роль играет литература.Напомню, что Ленин называл себя литератором.
Но есть литература и литература.
Великая мировая литература — явление благородное, хотя, возможно, и сухое. Он наполнен жизненными соками по плутовскому (а иногда и приключенческому) роману. Одиссея Гомера, Луциан Апулея, Синдбад, мореплаватель арабских сказок, Санчо Панса Мигеля Сервантеса, Панург Франсуа Рабле, Жиль Блас Лесажа, Д’Артаньян Александра Дюма, Тилль Уленшпигель Шарля де Костера, Сэм Веллер Чарльза Диккенса, Гекльберри Финн Марка Твена, Ходжа Насреддин Соловьева, Швейк Яроклава Гашека и, наконец, Остап Бендеры Ильфа и Петрова — вот ворота, через которые река жизни так радостно омывает литературное творчество. берега текут.Список предварительный и не претендует на полноту. Однако, отражая литературные предпочтения автора или, что то же самое, диапазон чтения, он дает общее представление об эволюции хотя бы части литературы.
Ручей далеко не прямой, он извивается и извивается, делится на ветви, образует удивительные петли, временами кажется, что он уходит, создает себе новые клумбы. Но его вечный поток не остановить. Литература жива до тех пор, пока не иссякнет ручей, до тех пор, пока она омывает, пусть иногда и искусственно, литературный континент, который, питаемый живительной силой пикареского романа, приносит цветы и плоды.
Существо великой литературы наполнено кислородом кровью приключений, пикаресков, схем и пародийных романов. Обычно все эти литературные формы отвергают интеллигенцию и все, что с ней связано. Это означает, что, несмотря на самые серьезные, самые искренние утверждения об обратном, литература как отражение реальной жизни или как отражение идеала, как способ построения идеальной действительности не принимает интеллигенцию в каких-либо глубоких и существенных аспектах. способ.Примеры найти несложно. Достаточно указать такой факт Литературы с большой буквы, как А. Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича».
Почему это так? Риторический вопрос; Тем не менее, это факт, что литература, которая по определению является продуктом интеллигенции, отрицательно относится к интеллигенции. Чем лучше, чем честнее литература, тем ярче проявляется эта парадоксальная черта.
Надо признать, что настоящая литература отражает реальную жизнь.Когда я был подростком в 1930-е годы, термин « интеллигентный» (существительное) употреблялся в качестве ругательства, а слово « интеллигенция » произносилось с нескрываемым презрением в Подмосковье, где я жил.
Таково было отношение не только рабочего пригорода или филистеров, хотя можно утверждать, что они не были худшей частью населения России. Осип Мандельштам, замечательный, утонченный и смелый поэт, которого нельзя обвинить в грубости восприятия, писал в 1924 году: «Сказанное (о неумении понимать стихи.- НК ) относится только к полуобразованной массе интеллигенции, заразившейся снобизмом, утратившей чувство языка, щекочущей давно омертвевшие нервы легкими и дешевыми стимуляторами, сомнительным лиризмом и неологизмами, которые часто чужды и враждебны русскому языку ». 1
Это всего лишь один, хотя и важный аспект дела. Лингвистическая безответственность так называемой интеллигенции не вызвала бы всеобщего презрения, если бы она не была проявлением чего-то другого и не имела бы корней, которые иногда бывают глубокими, а иногда и видимыми, но всегда существенными, решающими.Вот недавний отзыв, 2 , которая интерпретирует «приспособляемость интеллигенции к чуждой, невежественной силе,« искренность »ради спасения. В животном мире это известно как мимикрия, попытка стать невидимым для хищника ». Также обращается внимание на далеко не редкий переход от адаптации к вовлечению, который привел к« послушной приверженности к существованию, которое не в вашем руки длинным мелом ».
В относительно «вегетарианский» период, в начале сентября 1971 года, Хрущев, который к тому времени был на пенсии семь лет назад, с очевидной искренностью рассказывал о своих ошибках в отношении интеллигенции и о своих административных (по сути, полицейских) решениях, которые он принимал. не вдаваясь в суть дела, не понимая сути проблемы.В своем раскаянии он спросил, имеет ли он или кто-либо другой на его месте законное право принимать решения по творческим вопросам; Кто такие, спрашивал он, Суслов, Хрущев или Сталин, чтобы указывать интеллигенции, как жить и работать? В последней главе своих мемуаров, которую, по словам редактора, он не нашел вполне удовлетворительной, он высказал мнение, что «все деспоты хорошо относились к литераторам только при условии, что последние хвалили первых и их эпоху. ». Но, говоря, что «мы должны быть более смелыми, давая возможность творческой интеллигенции высказываться, действовать, творить», 3 Автор мемуаров до сих пор исходит из неоспоримой истины, что «поскольку в идеологии Коммунистическая партия пытается сохранить монополию, ее стремление переманить интеллигенцию на свою сторону не нуждается в объяснении.” 4
Надо признать, что Хрущев с настоящей болью говорил об отношениях между властью и интеллигенцией, рассматривая вопрос с позиций власти. Он видел, что так или иначе, легко и непринужденно, с трудом и даже непомерными затратами власть имущим удается наладить сотрудничество с интеллигенцией, которая в конце концов вступает в такое сотрудничество вполне осознанно. И не только так называемой «технической интеллигенции», которую Хрущев довольно неуклюже противопоставил «творческой интеллигенции».
Излишне говорить, что конформизм, если использовать наименее оскорбительный термин, большинства людей, считающих себя представителями интеллигенции или традиционно считающихся принадлежащими к этой группе, внес свой вклад в враждебность, с которой он часто просмотрено. В то время как у инженера, техника, военнослужащего или врача, при условии, что они профессионально компетентны, социальный и культурный конформизм может быть оправдан желанием выполнять свою работу, и по этой причине проявляется именно то, что он есть, конформизм у людей, которые: Как говорилось раньше, занимаясь гуманитарными науками, это легко превращается в рептильную мимикрию и подобострастие.
И власть имущие, и «массы» почувствовали лицемерие, неискренность, лживость. Это никак не повлияло на уважение к интеллигенции, которая воспринималась упрощенно и неоправданно как сплошное тело.
Неадекватность интеллигенции, ее неспособность жить согласно своей идее — вот что лежит в основе той неприязни, которую она вызывает у многих.
Склонность слепо следовать авторитету оказалась смертельной, когда наша интеллигенция в попытке убежать от себя приняла нонконформизм, но относилась к новому как к простому, прямому, линейному отказу от старого и таким образом пришла к новому конформизму.
Произведя сначала самодержавие, а затем Советскую власть, интеллигенция в припадке нонконформизма перешла к простому и бесхитростному противостоянию. Вместо кропотливой работы по постепенному улучшению ситуации эти люди встали на путь чистого и неподдельного неприятия. К сожалению, интеллигенция как совокупность людей оказалась неспособной подняться над обыденным повседневным сознанием, которое даже не пытается заниматься сложными, многомерными, многогранными проблемами, которые по своей сути являются общими и абстрактными.Сама идея о том, что связь между причинами и следствиями может быть не совсем простой, что искомые решения могут варьироваться в определенных пределах, что оппонент может быть прав, утомительна и даже возмутительна. Простое противопоставление красного белому и белого красного с простым исходом: «тот, кто был ничем, станет всем» — вот что определило образ жизни русской интеллигенции в XIX и XX веках. Эта идея была основана на концептуальном фундаменте, вульгаризированной чрезмерно упрощенной механистической картезианской модели человека, подкрепленной принципами так называемого рационализма.Либо забыли, либо никогда не осознавали, что либеральная идея подразумевает личную свободу при наличии личной ответственности. Озабоченность технологиями, в том числе социальными, затемняла мораль. Такое забвение непременно отомстит за себя. И моральное чутье, и инженерное искусство начинают плохо себя чувствовать. Было бы ошибкой и даже преступлением сводить кровавый сталинский режим к чертам личности Сталина. Это естественный результат, результат вековой операции интеллигенции с ее нетерпимостью и патологической страстью доводить все до абсурдной крайности.Все знают, что произошло в результате.
Вот таблица из нашего недавнего прошлого. Мне довелось слышать, как высококвалифицированные и, подчеркну, трезвые станочники, работающие на большом заводе, с большим удовлетворением говорили, как хорошо рабочему арестовать начальство, то есть управленческую и техническую интеллигенцию. и в тюрьме. Никому не приходило в голову задуматься о последствиях, которые это будет иметь для промышленности в целом и обороноспособности страны в частности, т.е.е., должность рабочего. То же самое и с военной интеллигенцией.
Все перемешалось: итогом работы идейной и творческой интеллигенции стала трагическая судьба естественно-научной, технической, военной, управленческой и религиозной интеллигенции, а также появление большой группы людей, которые могут и должны можно охарактеризовать как люмпен-интеллигенцию, своего рода человеческий оксюморон. И все же определения здравого смысла интеллигенции подразумевают, что она должна быть лидером народа, лидером нации, лидером государства.
Более 800 лет назад было сказано: «Голова не счастлива без шеи, тело несчастно без головы». 5 И если голова выбирает путь зла, возникает кризис, емко описанный еще в 1803 году будущим героем войны с Наполеоном, гусаром, партизаном и поэтом Денисом Давыдовым в басне «Голова и тело»: «У вас есть право править, но мы имеем право споткнуться и, споткнувшись, можем невольно ударить ваше величество о камень.”
Именно это и произошло. Под Солнцем действительно нет ничего нового. В 1836 году Давыдов написал свое последнее и самое известное стихотворение «Современная песня», в котором он разоблачил глупость дешевого либерализма и квазимудрость католицизма, к которой пришли современные «продвинутые слои общества» в своем оксюмороническом «конформизме». отрицания ».
В историческом плане русскую интеллигенцию, то есть лиц, занимающихся преимущественно гуманитарными науками, можно обвинить в том, что она уничтожила и себя, и русский народ, отвернувшись от Русской Православной Церкви и оставив Бога, забыв все о интересы своей Родины в целом, и став чужими для своего народа.Его первый исторический грех — непатриотизм. В истории этой страны легко идентифицировать периоды, когда заметная, яркая, шумная и талантливая часть интеллигенции стала непатриотичной, а ситуация в России ухудшилась. И наоборот. Его второй грех — парадоксальное следствие первого, доведенное до абсурда распространение идеи общности, идеи «великой простой истины», равного распределения всего между всеми.
Откровенно говоря, безграничный конформизм и жесткая крайняя оппозиция, порождающие непатриотизм и бездумное сентиментальное обожание деревенской общины, — все это, по отдельности и вместе доведенное до нелепой крайности, привело к краху российской интеллигенции.
Но так рассуждать — значило бы поддаться полемическому пылу и сознательно обеднить реальную картину развития событий, неоправданно сузить вопрос, зациклиться на чисто российских явлениях.На самом деле, явления, которые в целом принадлежат цивилизации, также значимы.
Со времен Адама стало ясно, что наличие в человеке набора существенных качеств с самых ранних этапов его истории — нравственности, необходимости выполнять полезную работу, здорового любопытства — обеспечивало саму возможность существования человеческого сообщество, отделив это сообщество от мира животных и противопоставив человека остальной части живой и неживой природы. Следует подчеркнуть, что родовые качества человека, сыгравшие значительную роль, особенно на заре человеческого существования, включали не только моральное чутье и не только способность к сознательному и целенаправленному труду, но и неудержимую тягу к новизне, здоровое любопытство. , жажда знаний.Это единство восходит к первобытным временам, с доисторических времен человека, и напрямую проистекает из той роли, которую соединение морали, потребность в полезном труде и любовь к учебе сыграли в создании homo sapiens. Исключительно важное значение имел вопрос объединения этих владений, их создания и использования на благо как отдельного человека, так и сообщества, которое действовало, по крайней мере, в раннюю историю, как племенной союз. В ходе истории прогресс и победа достигаются племенем, которое грамотно применяет эту триаду основных человеческих качеств, потому что оно знает, как эффективно накапливать, улучшать, распространять и передавать знания и навыки.
Все это, по определению, дело интеллигенции; именно удовлетворение этой потребности создает интеллигенцию.
На протяжении всей истории человечества люди, большие и малые человеческие сообщества нуждались в специалистах, профессиональный уровень и высокая квалификация которых не только отвечали бы потребностям времени, но и опережали бы эти потребности. В наши дни эта потребность ощущается особенно остро. В настоящее время потребности общества наиболее полно удовлетворяются за счет развития науки; Специалисты, о которых только что говорилось, — это профессиональные исследователи, создающие новые знания, и инженеры-исследователи, создающие новые технологии.Как правило, таких высококвалифицированных специалистов формируют годы обучения. Его этапы известны достаточно хорошо: начальное, среднее и высшее образование, а затем и ученые степени.
Это этапы профессионального становления интеллигенции. Именно через работу интеллигенции личность развивает свои человеческие таланты с целью их использования на свою пользу, на благо страны и человечества в целом. А это было бы невозможно без профессионализма.В свою очередь, профессионализм не может быть достигнут без морального роста; а моральное развитие невозможно без обучения в какой-то конкретной области. Человек не может быть хорошо подготовлен в конкретной области, если у него нет профессии или профессии.
Наука, знания, способы получения и передачи знаний являются составляющими культуры, которая также включает мировоззрение и творческое восприятие и воспроизведение мира, внешнего по отношению к человеку и его внутреннему миру. Очевидно, что культура — это игровая площадка интеллигенции.И, несмотря на политические, экономические и социальные изменения, культура всегда порождала интеллигенцию, которая порождает культуру.
Образ жизни и стандарты жизни менялись, но цивилизация продолжалась. Примерно 2000 лет европейская цивилизация была христианской как по форме, так и по содержанию. Лица, занятые интеллектуальным трудом, сначала священнослужители, а затем юристы и медики, поддерживали знамя древней (средиземноморской) цивилизации на протяжении тысячелетий европейской истории, продвигали и приумножали накопленные знания и образование.Люди этих трех профессий несли ответственность за благополучие в трех жизненных сферах, которые имели и все еще имеют величайшее значение для людей: сохранение благодати, спасение души; сохранение и приумножение материальных благ; и сохранение и улучшение здоровья.
Объединения этих специалистов, их конгрегации определили интеллектуальную атмосферу эпохи.
Еще с 18 века сильные мира сего ясно осознавали прикладное значение научных конгрегаций, которыми может пользоваться просвещенный Суверен, именно потому, что новые знания генерировались в сообществе людей, которые делали это как профессию.В современном мире индивидуальное благополучие, неразрывно связанные с ним безопасность и стабильность государства еще в большей степени определяются научным и экономическим потенциалом и интеллектуальным потенциалом страны, качеством жизни людей, уровнем развития демократии. , правовое сознание и нравственные нормы, преобладающие в обществе. Исключительно важную роль в обеспечении этих основополагающих условий процветания общества играет наличие ответственной и сильной интеллигенции.
Да, государству, любому государству нужна интеллигенция, стоящая на высоком, адекватном уровне развития; это форма существования национального интеллекта, который составляет основу новой (в первую очередь) военной техники и оборудования. Лидеры общества знали об этом всегда, а само общество — почти никогда. Но даже лидеры редко осознавали, что у интеллекта нации есть собственные законы развития, что он самодостаточен и ставит собственные цели, и что это делается учеными, т.е.э., весьма самобытные люди. Во-первых, по-настоящему интеллектуально одаренный человек интеллектуально независим, а это означает, что он не может придерживаться предвзятых идей, придерживаться жестко заданного образа мышления, следовать предписанному поведению. Именно эта характеристика, имманентная задаче создания, поддержки и развития интеллектуального потенциала страны, создает трудности во взаимопонимании и взаимодействии между интеллигенцией как таковой и широким общественным мнением.
Интеллигенция, выполняя свою основную функцию, воплощает в себе дух сомнения, дух отрицания, дух вечного противостояния всему, что и вызывает неприязнь общества к интеллигенции в целом.
Представители интеллигенции могут работать только с ощущением, что они работают в сообществе единомышленников. У них должно быть чувство принадлежности к определенной области духа и науки, определенному научному и культурологическому сообществу.
Представители интеллигенции заслуживают своего имени только тогда и постольку, поскольку они профессионально занимаются интеллектуальным трудом. Они не существуют вне здания культуры, и культура никогда не строится без интеллигенции.В этом случае последний следует рассматривать как целостный организм, который объединен не только генетически, концептуально, методологически и сущностно, но и социально. Интеллигенции нужна благоприятная социальная атмосфера, отсутствие идеологического давления.
Совершенно очевидно, что в ходе эволюции человеческого общества интеллигенция возникла с целью удовлетворения широкого спектра потребностей общества, которые постоянно усложняются.
Прежде всего, очевидно, что нам необходимо сознательное и кропотливое приумножение того, что уже было достигнуто, способность ассимилировать и в больших масштабах воспроизводить результат того лучшего, что человечество создало и достигло.Наряду с этим разумно консервативным, по сути «консервативным» компонентом интеллектуального процесса человечество нуждается и, к счастью, имеет врожденную предрасположенность к поиску, творчеству, попыткам познать то, что еще не известно, что остается новым и перспективным.
Однако желание понять природу вещей, мир материальных объектов и человеческую душу и использовать новые знания для создания новых технологий, продуктов и услуг, новых образов жизни отдельных людей и человеческих сообществ — желание генетически имманентно человечеству в целом не присутствует у каждого человека и даже не у большинства людей.
Но дух и кровь вождей племен и шаманов, солдат и мудрецов, поэтов и философов, ученых и художников не ослабевают по мере нашего продвижения по временной шкале только потому, что все это сохраняется интеллигенцией в целом.
Количество культуры, количество знаний возрастают неумолимо, но не монотонно. Новые знания многие получают крошечными порциями. Лишь немногие достигают прорыва. Но эти немногие люди опираются на то, что было сделано многими до них.Конечно, нельзя забывать, что «культура всегда формируется и достигает более совершенных форм путем аристократического отбора. Становясь более демократичным, расширяясь, чтобы охватить новые группы, он снижает свой стандарт и может подняться снова только позже, после того, как человеческий материал будет обработан ». 6 Под обработанным человеческим материалом я подразумеваю расширение круга тех, кто может и должен влиться в интеллигенцию.
Хотят того левые и правые мракобесы или нет, но интеллигенция будет существовать до тех пор, пока существует само человечество.Чтобы не выпасть из этой категории, не оказаться вне человеческого сообщества, Россия должна продвигать свою интеллигенцию, а интеллигенция должна продвигать Россию.
В конце 19-го и начале 20-го века экономические условия повседневной жизни профессионалов были более или менее одинаковыми повсюду, а может быть, даже немного лучше в России, чем где-либо еще. Экономика в ее обыденном, обывательском смысле значения не имела. Важно другое. Условия работы в России в то время часто оставляли желать лучшего, но даже они существенно не отличались от европейских и под сильными и целенаправленными воздействиями поддались изменению.
Отсутствие идеологического давления, резкие различия в экономике уровня жизни и условиях профессиональной деятельности, высокий социальный статус врачей, школьных учителей, инженеров, архитекторов и профессоров университетов, достойный уровень жизни их семей , свобода передвижения и медленно, но неуклонно повышающийся уровень демократии в обществе и ее идеологическая, конфессиональная и справедливая человеческая терпимость, общее ощущение того, что Россия нужна, полезна для России, делали смешным даже поднимать вопрос о конфликте между техническим и Естественнонаучная интеллигенция, с одной стороны, власть и народ — с другой.
Нелегко понять менталитет интеллигенции, занимающейся гуманитарными науками, гуманитарными науками. По поводу блестящей плеяды русских философов XIX – XX веков могут быть разные мнения. Далеко не все из них были философами в полном смысле этого слова, но вопросы морали и религии исследовались ими основательно и убедительно. Наши историки, от В. Татищева до Г. Вернадского, за 250 лет накопили огромный массив исторических знаний.
И историки, и философы, и даже те, кто пишет о таких деликатных вопросах, как духовное в целом и русское православное вероучение в частности, по сути, создали положительное знание, которое легко обсуждать и оценивать. Более сложный вопрос — это работа писателей, рецензентов и публицистов. Могу только сказать, что не без их вклада, не без их точки зрения люди стали рассматривать людей, работающих в сфере гуманитарных наук, а затем и интеллигенцию в целом, как класс лукавых паразитов.
Создавалась дореволюционная атмосфера, и революционное движение поддерживалось именно этой частью интеллигенции, большинство из которой не подозревало, что их ждет в конце. Надо сказать, что недальновидность властей в немалой степени способствовала и революционному катаклизму. Тем не менее можно утверждать, что революцию совершила интеллигенция. Это признал и лидер победоносной революции В. Ульянов по кличке Ленин.
Революция, а затем установление Советской власти резко изменили положение интеллигенции. Гражданская война и атмосфера классовой борьбы, трактовавшаяся крайне примитивно, не могли не сказаться на настроениях интеллигенции. Несмотря на внутреннее неприятие большевизма или, в лучшем случае, полное непонимание происходящего, для большинства этих людей (ученых и специалистов) Россия оставалась Россией, а те, кто не эмигрировали и не были вынуждены покинуть страну во время гражданская война продолжала работать на благо России и российской государственности.Но нарастала идеологическая нетерпимость. Консолидация государственности в советский период происходила за счет централизации и консолидации власти путем массовых репрессий и идеологических чисток.
Все это создало в обществе в целом и среди научного и инженерного сообщества, в частности, атмосферу неуверенности, страха и скупости, с одной стороны, революционного энтузиазма и искреннего желания некритически следовать генеральной линии правящей партии. и его лидер, с другой.Для культуры это практически смертельно, потому что это приносит деньги либо самой интеллигенции, либо тому, что делает ее интеллигенцией.
Революция, война и эмиграция сильно затронули людей, прошедших современное высокоорганизованное крупное производство, и вообще всех грамотных людей. Заповедник составляли сельские жители, по большей части неграмотные. Поэтому культурная революция в России, которая, надо признать, давно назрела, началась в советское время с массовой ликвидации неграмотности.К сожалению, при всех своих положительных сторонах этот процесс имел и отрицательные последствия. При ограниченных ресурсах расширение сферы культуры и образования неизбежно уменьшает их глубину, вызывает упрощение и грубость, выравнивает культурное, научное и образовательное пространство.
Надо понимать, что ликвидация безграмотности происходила на фоне ликвидации эксплуататорских классов, под лозунгом продолжения революционных преобразований.Примитивно-вульгарный классовый подход и классовая борьба также вводились, иногда довольно искусственно, в культурную жизнь и жизнь интеллигенции. Революционные изменения одновременно стимулировали появление как экстремистских, левых, так и псевдопродвинутых тенденций в культуре, науке и образовании. Их искренность делала их более, а не менее вредными.
Примерно через 20 лет после революции все стало более или менее неподвижно. Политический и идеологический нонконформизм был подавлен, его носители были либо изгнаны из страны, либо физически истреблены.Была создана новая интеллигенция, уже не чужеродная социальная группа.
Сложилась новая любопытная ситуация.
Вступив на путь автаркии, государство не могло не обратить большое внимание на подготовку естествоиспытателей и инженеров. Возможности были хорошими. Россия была такой большой, ее ресурсы и возможности казались неисчерпаемыми, и автаркии казалось легко достижимой. Большая система отличается не только высоким энергопотреблением, но и большой инерционностью.Тысячи молодых людей, которые ежегодно вступают во взрослую жизнь, увидели впереди могучую и стабильную систему. Большинство людей воспринимали это интуитивно, не задумываясь конкретно об этом. В этой ситуации одаренная молодежь сознательно или (в большинстве случаев) неосознанно выбрала исследования в области естественных наук или инженерную карьеру, попала в «техническую» область. По сути, они были предрасположены к тому виду творческой деятельности, результаты которой можно было оценить на основе объективных критериев, в максимальной степени свободных от идеологии.Пожалуй, можно сказать, что это была своего рода «внутренняя эмиграция», поощряемая обществом и его лидерами.
Так в России появилась интеллигенция с ограниченным кругом интересов и недостаточной фундаментальной подготовкой (в том числе гуманитарной). Так в стране началась чрезмерная специализация и перепроизводство инженеров. Все это усугублялось инерцией идеологической нетерпимости, милитаризацией науки и техники, однобокостью экономики и экстенсивным режимом ее развития.
Общество долгое время относилось к интеллигенции двояко. С одной стороны, к знаниям относились с уважением — отношение, восходящее к Фрэнсису Бэкону. Однако, попав в ловушку собственной риторики, наши лидеры на словах признавали научные знания, но боялись настоящей интеллигенции. В период так называемого застоя они без лишних идейных ссор просто требовали результатов. И если ученому требовалось теоретическое исследование для получения результатов, ему разрешалось заниматься этим при условии, что он не вмешивался в идеологическую основу.
Интеллигенция сейчас не востребована. Мы больше ни в чем от него не зависим, у нас есть все — металл, энергия, телеграф, телефон, аспирин, хинин, радио, телевидение, железные дороги, самолеты, пушки и танки. При чем тут интеллигенция? Даже когда его члены заметны, это только как неприятность, как нечто, излишне усложняющее жизнь. Они требуют денег, они говорят о непонятных вещах, пытаясь преувеличить их ценность, они изобретают что-то немыслимое, они предсказывают катастрофы.Они ведь не годятся?
На самом деле, в ближайшей и среднесрочной перспективе (любимые периоды наших экономических лидеров), в четко видимом и не слишком отдаленном будущем, без интеллигенции нам не будет негде жить и не будет мира, в котором можно было бы чувствовать себя в безопасности. Вот почему здравомыслящие лидеры скрипят зубами и признают необходимость интеллигенции. Что же касается далекого, стратегического будущего, то от интеллигенции можно ожидать только неприятностей.
Тем, кто в наибольшей степени определяет будущее страны, следует осознать, что только осмысление истории России, специфики русского национального самосознания может составить основу нашего научного, технологического, государственного, экономического, нравственного, религиозного, правовое и художественное развитие, иными словами, развитие нашей цивилизации.И это дело нашей интеллигенции.
Необходимо понимать, что единственные реформы, которые могут иметь успех в России, — это те реформы, которые помогают сохранить и поднять уровень и запас оригинального мышления российских инженеров, исследователей, поэтов, философов, менеджеров, генералов, промышленников, финансистов, врачей, агрономов и т. Д. юристы и религиозные деятели. В противном случае Россия перестала бы быть страной и стала бы территорией, эксплуатируемой внешними агентами и управляемой извне. При всем нашем стремлении интегрироваться в мировое сообщество, национальная безопасность, понимаемая достаточно широко и глубоко, требует, чтобы Россия развивала свою собственную культуру и культуру, которая соответствовала бы мировым стандартам.
К сожалению, в настоящее время большая часть россиян, и притом высококлассных специалистов, утратили национальное самосознание, которое передавалось из поколения в поколение в частном и, я бы даже сказал, патриархальном порядке. через семью. Корни были отрезаны. Многие семьи ищут и часто находят следы своих предков, проецируемых на экран современной жизни. Но эти следы не более чем тени; найти их, уметь различать, исследовать их важно, но этого недостаточно с помощью длинного мела.Они молчат эти тени наших предков. «Каналы» личной, прямой и наиболее эффективной связи с прошлым для большинства из нас заблокированы. Семья превратилась в плоскую двухмерную единицу без вертикального углубленного компонента, особенно в том, что касается воспитания детей. Вот почему изучение нашей истории необходимо на благо каждого из нас и на благо России.
Подчеркну, что исторически национальное самосознание невозможно без религиозного самосознания.В истории России Русская Православная Церковь много сделала для осознания племенами своего единства, единства земли, единства народа, единства народа и власти. В какой-то момент русская православная вера была синонимом всего русского. В этом причина чрезвычайно важной роли церковной интеллигенции в целом и отдельных ее представителей в частности.
История России показывает, что дела в стране шли хорошо тогда и только тогда, когда люди, профессионально занимающиеся интеллектуальным трудом (армейцы, инженеры, врачи, священнослужители, учителя, администраторы), вдохновлялись идеей русского патриотизма, который мог быть понятым по-разному.Как только интеллигенция стала апатриотической, страна погрузилась в кризис и оказалась на грани катастрофы.
Долг интеллигенции — быть источником, проводником и распространителем идеи русского патриотизма, истолкованной во всем многообразии ее смыслов.
Важнейшим условием выполнения этой обязанности является, в том числе, преподавание истории России, как это было на самом деле.
Я считаю, что русская интеллигенция не существует и не может, по сути, существовать вне российской государственности.Вообще говоря, об интеллигенции можно говорить только с точки зрения государственности того или иного режима. Чем сильнее и авторитетнее режим, тем заметнее интеллигенция и ее место в обществе, охваченном соответствующим правительством. Строго говоря, интеллигенция существует тогда и в той мере, в какой существует режим.
Вернемся к российской составляющей концепции российской интеллигенции. Он стал Россией сравнительно недавно, скажем, не более 100 лет назад.До этого он был русским.] Как сообщество людей интеллектуального труда, несмотря на все разнообразие и даже противоречие взглядов по конкретным вопросам бытия, оно всегда отличалось высоким патриотизмом.
Отсутствие патриотизма у заметной (пусть и не по численности, то по шумности) части интеллигенции сразу вызывает общественное неприятие интеллигенции в целом. Когда отсутствие патриотизма или, что еще хуже, воинствующий истерический апатриотизм сочетается с бездумным конформизмом, неприязнь к интеллигенции нарастает.
Что касается оценки властями «сверху», то интеллигенцию сердечно презирают за неясность ее мотивов, непредсказуемость и крайние взгляды. Качество, которое делает интеллигенцию, непросто понять. Он грубо расстраивает заветные и привычные заблуждения. Это говорит горькую правду. Для него нет табу на тему или слишком деликатного вопроса; он не признает авторитетов или сакральных истин. Вот что так раздражает. Вот почему его не любят.
Интеллигенция способна к самовоспроизводству.Он самостоятельно определяет свой путь развития, обеспечивает собственную преемственность, набирает новые таланты и готовит их для будущей работы.
Все это попахивает элитарностью, но без этого интеллигенция не смогла бы выполнять свою миссию, расширять и углублять свои знания о мире и использовать эти знания для продвижения прикладных исследований, составляющих основу для совершенствования массового производства. товаров и услуг.
Принадлежность к элите предполагает поддержание высоких моральных и гуманитарных стандартов.В противном случае элитарность может стать опасной. К счастью, поистине гуманный и воспитанный человек, человек, усвоивший лучшее из гуманитарной культуры, лучше подготовлен к ассимиляции и эффективному использованию специализированных знаний.
Интеллигенция полезна, она может сделать много хорошего стране и народу. И он будет оставаться полезным до тех пор, пока сохраняет то, что делает его интеллигенцией.
Здесь важны, прежде всего, целеполагание и возможность этичного, нравственно правильного выбора.Наша интеллигенция сейчас должна сделать выбор. А когда и если будет сделан такой выбор, можно будет восстановить в общественном сознании исторически верное представление о национальной русской интеллигенции как о патриотическом слуге страны.
Известно, что нация, которая не хочет кормить свою армию, обнаруживает, что она кормит чужую армию. Точно так же люди и лидеры, которые отказываются ценить свою интеллигенцию, обнаруживают, что ими правит иностранная разведка и они служат чужим интересам.В той же степени интеллигенция, не желающая жить интересами своей страны, уважать и даже почитать ее, теряет свое существенное качество и вынуждена пресмыкаться в чужих странах.
Перевод Натальи Бельской
Сноски
*: Член-корреспондент РАН, председатель Высшей экзаменационной комиссии Российской Федерации. Статья сокращена. Он был опубликован полностью на русском языке в журнале «Вопросы философии», № .3, 1998. Назад.
Примечание 1: О. Мандельштам, «О поэзии», в: Слово и культура, (Сборник), Москва, 1987. Впервые опубликовано в 1924 году в журнале Россия, № 3 (август). ). Назад.
Примечание 2: Эдуард Графов, «Кто был кто. О несказочной сказке Евгения Шварца Телефонный справочник ”, Известия, № 148, 8 августа 1997 г. Назад.
Примечание 3: Н.С. Хрущев, Воспоминания. Избранные фрагменты, Москва, 1997, с. 499-510. Назад.
Примечание 4: Там же. Назад.
Примечание 5: Слово о полку Игореве (на древнерусском языке). Назад.
Примечание 6: Бердяев, Истоки и смысл русского коммунизма, Москва, 1990, с. 40 с. Назад.
.
